
Письменность на Руси
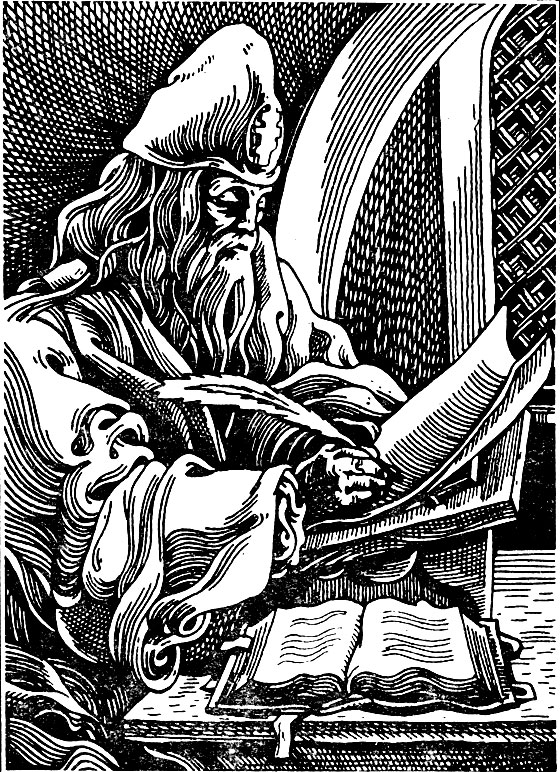
Всего несколько букв дошло к нам из X века. Написанное кириллицей на глиняном горшке слово "гороухша", или, по другому прочтению, "горушна", - горчица, вызвало оживленные комментарии ученых. Значит, еще во времена Игоря Старого, деда Владимира Красное Солнышко, на Руси владели грамотой. Причем применяли ее для бытовых нужд, в повседневной жизни. Ведь написал это слово не какой-нибудь "монах трудолюбивый", а простой человек, озабоченный тем, чтобы горчицу в одном горшке не спутали, не дай бог, с подсолнечным маслом в другом. Надпись сделана для людей, которые ее могут прочитать, - домашних и знакомых, приказчиков и покупателей - таких же обыкновенных обывателей, как ее автор.
По времени эти буквы стоят где-то посредине между "русьскими письменами", обнаруженными Константином Философом в Корсуни, и книгами, которые появились на Руси после ее крещения Владимиром. Свидетельствуют буквы о весьма важных явлениях: первое - непрерывная письменная традиция на Руси восходит к глубокой древности, письмо пришло сюда посредством христианства, но еще в языческие времена; второе - кириллица через восемьдесят-семьдесят лет по ее возникновении достаточно широко распространилась среди восточнославянских племен, раз ею пользовались в бытовом обиходе; третье - любая грамотность предполагает наличие книг, по которым можно научиться грамоте от сведущих в ней людей.
От тех времен такие книги к нам не дошли. Как говорили в старину, их поглотило время. Древнейшая русская книга - Остромирово евангелие, датируемое 1056 - 1057 годами. Мы знаем имя ее переписчика дьякона Григория, а переписана она была для новгородского посадника Остромира, по которому и названа. Не знаем мы лишь учителей Григория: кто научил его тому поразительному искусству, с которым выполнен этот труд? Старинный пергамент заполнен уверенным крупным уставом, заглавные буквы и заставки сияют непогасимыми красками, каждый лист - мастерское произведение. Такая работа предполагает преемственность, дилетанту она не под силу, навык к ней должен был переходить от мастера к мастеру. Выделка пергамента из телячьих шкур, сложное ремесло переплета требовали опять-таки профессионального умения. Все говорит за то, что уже к середине XI века на Руси существовала книжная традиция. Свидетельства летописцев убеждают нас в том, что просвещение в то время делало быстрые успехи.
С принятием христианства в 988 году на Русь хлынул поток греческих и болгарских книг, которые до того попадали туда эпизодически. Письменность должна была удовлетворять нуждам церкви и государства, прочно связанных между собой. Русь была велика, и ей сразу же потребовалось много грамотных людей. По стране строились церкви, богослужение невозможно без книг, надо было обучать возникавшее духовенство. Государственная администрация, связи с чужими землями, торговля нуждались в образованных людях. Это хорошо понимали наиболее дальновидные князья. Первые школы начал вводить Владимир Красное Солнышко. Ярослав Мудрый, по словам летописца, велел в Новгороде собрать триста детей и учить их книгам. Как бы мы сейчас сказали, шла подготовка кадров для государства.

Пифос с острова Миконос. Фрагмент
Сами князья нередко были глубоко образованными людьми. Ярослав "книгам прилежа и почитал их часто в нощи и в дне". Он собрал писцов, которые по его повелению переписали много книг, а иные книги переводили с греческого на славянский. При нем составлена первая русская летопись. Ярославов сын Святослав Черниговский имел у себя полные клети книг, из которых до нас дошли два сборника, известные под его именем. Несколько позднее знатоками книг стали известные Владимир Мономах и Ярослав Осмомысл, а забытый князь ростовский Константин Всеволодович - так тот постоянно держал при себе ученых людей, покупал иностранные книги и составил библиотеку в тысячу томов. Иные князья, по словам летописцев, все свое состояние спускали на книги, стоившие тогда очень дорого. Таким библиоманом был Роман Смоленский.
Наиболее образованных людей по средневековой традиции выдвигали монастыри. За крепкими стенами, в тишине келий можно было без частых помех читать, писать и собирать книги. И туда подчас достигал самовластный гнев князя, и туда иногда врывались валы народного бунта, и туда порой вторгались печенежские и половецкие орды, но в сравнении с беспокойной жизнью воина, торговца, ремесленника монашеское житие было спокойным. В монастырях накапливались книжные богатства, в монастырях развивалось летописание, создавались литературные памятники, переводились иноязычные сочинения. Идеология того времени, носившая по необходимости религиозную окраску, тоже формировалась в монастырях. И не удивляйтесь, если первые писательские имена, которые вы узнаете, знакомясь с древнерусской письменностью, будут именами монахов.
Долгое время наши взгляды на письменную культуру Древней Руси ограничивались двумя категориями ее населения - княжеский двор и духовенство. Нетрудно сообразить, что обе категории вместе составляли весьма малый процент от общего числа жителей. Но вот, сперва в Новгороде, а потом и в других местах, обнаружили берестяные грамоты, сразу перевернувшие прежние представления. Бесценные свидетельства грамотности народа в отдаленнейшую эпоху, они помогли нам воссоздать духовную картину Киево-Новгородской Руси, которая до тех пор была неполной. Дело в том, что и летописи, и поучения, и послания, и другие литературные произведения того времени содержат в себе отголоски жарких споров, тревоживших тогдашних людей.
Киев и Новгород были большими городами, на чьих площадях и улицах толпились вместе с русскими греки и немцы, чехи и болгары, евреи и арабы. Мало того, что они были представителями разных религий, зачастую среди них появлялись выразители еретических направлений этих вер, например болгарские богомолы. Города окружала полуязыческая, а то и совсем языческая стихия. Волхвы возглавляли народные восстания, апеллируя к дохристианской старине, когда якобы текли молочные реки в кисельных берегах. Церковь то укрепляла княжеский стол, то расшатывала его в своих меняющихся интересах - в зависимости от меняющейся обстановки. В том и другом случае ссылок на религиозные авторитеты было достаточно. Наконец, получив новую веру из рук Византии, новообращенная Русь отнюдь не желала зависеть от Константинополя ни по существу, ни формально. А Византия очень бы хотела укрепить такую зависимость. Митрополита - главу русской церкви - посылали в Киев поначалу из Царьграда. Но едва-едва церковь на Руси окрепла, как тут же при активной поддержке князей и народа стала отстаивать право ставить митрополитов самостоятельно. Важный вопрос тогдашней политики - внешней и внутренней, - и вокруг него кипели страсти. Чтобы обосновать решение в свою пользу, нужно было уметь спорить и аргументировать. Аргументы выискивались в книгах.
Так неужели монахи и князья спорили только между собой, убеждали лишь друг друга, приходили к заключительным выводам ради одних себя? Без поддержки населения любые начинания повисли бы в воздухе. Грубой силой можно добиться далеко не всего - необходима была и сила убеждения. Послания, поучения, проповеди, летописи, жития адресовались преимущественно к читающим, а не к слушающим. Только этим можно объяснить расцвет книжности в Киево-Новгородской Руси; спрос рождал предложение, читатель требовал чтения.
Когда я писал поэму "Василий Буслаев", мне пришлось перерыть много старых книг. И вот передо мной въяве встал Новгород XII века, в котором протекало мое повествование. В стихотворных строках я не идеализировал, а лишь сгустил сведения о нем, почерпнутые из летописей.
Туча низко над бором нависла, На ветру разметалась волглом. Не расцвеченное коромысло - Радуга черпала Волхов. И под радугой многоцветовой, Прямо в небо крестами вколот, Старовечный и вечно новый Над рекой поднимается город. Словно волны, толпятся кровли, И, как птиц красноперых стаи, Цвета ярой и буйной крови, Рвутся в небо червленые стяги. А по стенам ходит дозором Больше сотни сильных и рослых. Иноземец пытливым взором Не сочтет их кафтанов пестрых. Не ветра овевают, но ветры, Не снега заносят, но снеги Этот город, грозный и светлый, На высоком срубленный бреге. А вокруг яснеют озера, Темный бор переходит в рощи. Нету в мире такого узора, Нет красивей и нету проще. Иглы сосен зимой полыхают, А когда зеленеть березе, Парни суженым посылают Письма, писанные на бересте. ............................ Горд торговыми город рядами. Ой, богато живут новгородцы! Завалили лавки дарами Иноверцы да инородцы. Толпа любому рада, - Все веселит толпу! - Ходже ли из Багдада, Афонскому ль попу. От холода заиндевев, В декабрь, в солнцеворот, Здесь зябкий гость из Индии С ганзейцем торг ведет. Склонив с досадой голову, Надменный Альбион Бруски меняет олова На наш смиренный лен. Здесь все моря и реки, Здесь вся земная суть, Путь из варяг во греки, В грехи открытый путь. Никто здесь зря не носится С непокупным добром, Торгуют крестоносцы Святейшим серебром. А честные арабы - Возьмись кто покупать!- И камень из Каабы Решились бы продать. И как во время оно, В убогости своей Богатства Соломона Здесь множит иудей. Забыв о муке крестной, Забыв господень гроб, Здесь продает наперсный Свой крест наш грешный поп. Обычаям старинным Переменяя лик, Сиделец к фряжским винам И к пряностям привык. А женам их обновы Носить сам черт велит, Везут им из Кордовы И шелк и аксамит. Недешево обходится Мужьям заморский лоск. За семь морей увозятся Пушнина, мед и воск. И сосны корабельные, И крепкая пенька... Ах, тридевятьземельные Блага издалека! .................................. Тяжко дышат в престольный праздник Деревянные мостовые, Всех встречает - дельных и праздных - Белокаменная София. Горд Софией город могучий, Красотой ее несказанной, Тем, что здесь вот стоял над кручей Сам апостол Андрей Первозванный. Горд он колоколом недремным, Медь гремит его гулко и веще, Часто скопищем, светлым и темным, Вкруг него собирается вече. Здесь порой прощенья у голи Просит набольший и богатый Вековой новгородской воли Грозный колокол громкий глашатай.
Киев с его церквами, рынками, мастерскими, иностранными кварталами ничем не уступал Новгороду, а во многом превосходил его. В сложной, кипучей, многосторонней жизни грамотные люди получили явную фору перед неграмотными. И берестяные грамоты - "русский папирус", - сотнями найденные при раскопках древнерусских городов, не оставляют сомнения, что преимущество грамотности было понято людьми того времени. О чем только не писали они друг другу - подлинно всенародная корреспонденция! "Казалось, что из-под земли раздались голоса, и такие живые голоса, ведь речь была иногда совсем разговорная, чего нет в древнерусских текстах, ранее известных", - пишет академик А. В. Арциховский, которому мы обязаны открытием и исследованием берестяного письма.
Предоставим слово этому крупнейшему авторитету:
"Большинство грамот - частные письма, самое существование которых в средневековой России было до раскопок неизвестно. В них затрагивают всевозможные бытовые и деловые вопросы, все, о чем люди могут писать друг другу. Многие грамоты - хозяйственные документы. Встречены жалобы, адресованные правительству и высшим государственным лицам. Имеются школьные записи, шуточные тексты и другие.
До раскопок ученые считали, что в средневековой России грамотные люди принадлежали преимущественно к духовенству. Раскопки это окончательно опровергли даже до открытия берестяных грамот. Многие найденные в Новгороде предметы (бочки, сосуды, рыболовные грузила, поплавки, стрелы, банные шайки и так далее) помечены именами или инициалами их владельцев. Это значит, что грамотные были не только эти владельцы, но и их соседи, и пометки давали им возможность различать свои вещи от чужих.
Берестяные грамоты тоже говорят о широком распространении грамотности. Почти все их авторы и адресаты люди светские, притом не только богатые, но и бедные, не только мужчины, но и женщины.
При таком развитии образования неизбежно развивалась у отдельных лиц охота к чтению. Например, автор одного письма XIV века просил адресата, которого называет своим другом, прислать ему "чтения доброго", то есть интересную книгу. Адресатом был Максим Онцифорович, брат известного посадника Юрия Онцифоровича. Вот текст грамоты в переводе: "Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, пожалуйста, овса у Андрея, если продаст. Возьми у него грамоту. Да пришли мне чтения доброго".
Широкое распространение грамотности является важным признаком развития городской культуры. Новгородская школа стала теперь доступна изучению. Найдено, например, школьное пособие - деревянная азбука начала XIV века. Это пятиугольная дощечка, на ней написано тридцать шесть букв в порядке тогдашнего алфавита.
Автором целой пачки берестяных грамот XIII века является маленький мальчик. Его звали Онфим, он три раза подписался. Он учился грамоте, неоднократно им написан алфавит (алфавитный порядок букв всегда точен), а также комбинации согласных букв с гласными, что позволяет выяснить способ обучения.
Когда Онфиму надоело писать, он начал рисовать людей и зверей. Судя по рисункам, ему было приблизительно пять лет. Все мальчики мечтают стать воинами. Онфим изобразил свои будущие воинские подвиги. Один из нарисованных им всадников поражает копьем врага. Под всадником подпись: "Онфим".
Можно привести еще примеры грамот разного рода. Тексты даю в переводе с древнерусского языка на современный:
"От Бориса к Настасье. Как придет эта грамота, пришли мне человека на жеребце, потому что у меня здесь дел много. Да пришли сорочку, сорочку забыл".
Борис куда-то уехал ненадолго по делам. Для разъезда по этим делам ему понадобился всадник. Затем он сообщает, что забыл смену белья, и просит ее прислать.
"Поклон от Петра к Марье. Покосил я пожню, и озеричи у меня сено отняли. Спиши список с купной грамоты да пришли сюда".
Озеричи - жители села Озеры. Петр - крестьянин или рядовой горожанин. Будь он феодал, даже мелкий, крестьяне не могли бы отнять у него сено. Марья была грамотна, в противном случае Петр в иных выражениях заказал бы ей копию документа.
Грамоты писались и по мелким вопросам, например о выдаче двух ложек и двух ножей. А иногда в хозяйственных документах упоминаются колоссальные по тому времени суммы.

Нашли мы первое древнерусское любовное письмо. Вот оно: "От Никиты к Ульянице. Пойди за меня. Я тебя хочу, а ты меня". Автор прямо начинает с брачного предложения, но затем говорит о своих чувствах, а заодно о чувствах невесты, в которых он уверен.
Ряд берестяных грамот связан своим содержанием с торговлей. Мать просит сына купить ей "зенденцу добру". Зенденца - бухарская хлопчатобумажная ткань. Текст гласит: "От Марины к сыну моему Григорию. Купи мне зенденцу добру". Торговля со Средней Азией была до сих пор известна в Новгороде лишь по находкам среднеазиатских монет".
Мы сделали эту пространную выписку из сообщения академика Арциховского, чтобы, как говорится, исчерпать вопрос. Общенародная грамотность в Древней Руси теперь уже не гипотеза, а факт. Под Древней Русью мы разумеем всю Русь до монгольского нашествия и не затронутый им Новгород, включительно до XV века. Такое широкое распространение грамотности опиралось, по-видимому, на традицию, восходящую, может быть, к "русьским письменам". Долгое время - на протяжении IX - X веков - очаги грамотности были разрозненными, они то вспыхивали, то гасли в разных углах Руси. Не было объединяющей общественно-государственной идеи, которая могла зажечь их повсеместно. Такая идея возникла на рубеже X - XI веков.
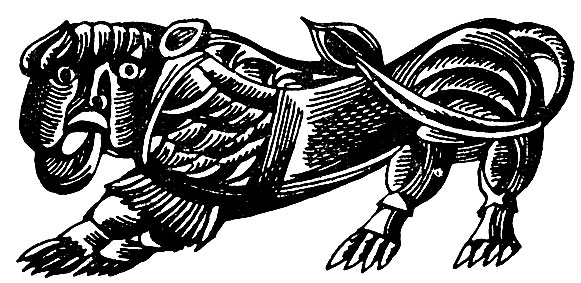
Создание национального государства с помощью единой религии, организация решительного отпора кочевникам, упорядочение общественных и классовых отношений вызвали необычайную активизацию всех слоев народа. Государство и общество подвергалось воздействию противоположных сил, центробежных и центростремительных. Стремление к общерусскому единству все время наталкивалось на удельные перегородки. Препятствия эти были в ту пору исторически непреодолимы. Феодализм только-только еще принялся на Руси. Удельная раздробленность была его далеко идущим следствием, с которым сумели сладить совсем в другой исторической обстановке лишь дальние потомки киевских князей - московские государи. Пока же процесс шел своим чередом. Ярослав Мудрый или Владимир Мономах в силу своих личных качеств и благоприятных условий могли на двадцать-тридцать лет притянуть разбегающиеся области к Киеву, стянуть в один узел противоречивые тенденции. Но с их смертью снова вспыхивали междоусобицы, продолжал действовать неумолимый процесс феодального раздробления. Насколько он был неостановим, видно в свете его трагических последствий.

Дионис и Силен
Пока речь шла о внутренней жизни государства и об отпоре старым неприятелям - печенегам и половцам, - удельная раздробленность и княжеские свары были привычным, но не катастрофическим злом. Когда же в начале XIII века в южных степях появился действительно страшный противник - монгольские орды, разъединение Руси обернулось катастрофой. Жестко централизованному войску монголов, построенному, по десятеричной системе, с неумолимой дисциплиной и подчиненностью, не могли противостоять разрозненные княжеские войска. В 1223 году, в битве под Калкою, они были наголову разбиты татарами. Но те, занятые своими внутренними делами, не воспользовались тогда плодами победы и отхлынули туда, откуда пришли. Русь получила более чем десятилетнюю передышку. Казалось бы, жестокий урок должен подействовать? Ничуть не бывало. Нашествие Батыя спустя тринадцать лет после калкинского побоища удельная Русь встретила такой же разрозненной, как и тогда.
Но вместе и наряду с ним шел другой процесс, глубокий и перспективный. Жители Великого Новгорода и Новгорода-Северского, Владимира-Волынского и Владимира-на-Клязьме одинаково ощущали себя русскими. Князья менялись иногда чуть не каждый год, а русская земля стояла от веку. Стремление к общерусскому единству, к национальному сплочению и консолидации все время противоборствовало с обратной тенденцией. Это диалектическое, а мы бы добавили, и трагическое, противоречие было движущей силой умственной жизни Древней Руси. Все другие - причем крупнейшие - явления духовной борьбы того времени можно привязать к этим двум крайним точкам.
Избави бог смотреть на давние дела упрощенно. Феодальная раздробленность имела свои привлекательные стороны, и они в спекулятивных целях подчеркивались ее защитниками. Какой-нибудь захудалый удельный князек, обращаясь к горожанам, мог им демагогически заявлять: "Что нам Киев! Мы сами себе Киев! Будем своим обычаем жить, пусть нашей воли не стесняют". Местные интересы сплошь и рядом выходили на первый план, и отстаивали их в урон общерусским не только князья, но и простые люди.
К чести литературы Древней Руси было то, что она с первых своих шагов заявила себя как выразительница общерусских интересов, способствовала рождению национального самосознания. Мы показали обстановку, в которой она возникла, - становление государства, рост культуры, связи с Востоком и Западом, широкая грамотность. "Да пришли мне чтения доброго", - пишет человек того времени своему приятелю. Какое же это "чтение доброе", что входило в его круг?
Поначалу, но только поначалу, в него вошли церковные книги. Для многих наших современников они - олицетворение умственного консерватизма, грубых и наивных заблуждений. Но человеку, еще вчера приносившему жертвы Перуну и Велесу, они открывали мир, неизмеримо более сложный и богатый, чем тот, в котором он жил. В прошлой главе мы говорили о значении и роли Библии в человеческой культуре. Мы остановились по преимуществу на эстетической стороне древней книги, но нужно сказать и об ее этической стороне. Идея покорности, заключенная в ней, была, разумеется, очень на руку сильным мира сего. Однако сводить все содержание Библии к одной такой идее нельзя. Будь это так, Библия не просуществовала бы тысячелетие как жизненное руководство многих поколений людей. А она таковым являлась долгие века.
О революционных зернах, из которых выбрасывались самые неожиданные стебли, мы уже говорили. Они раскиданы и по книгам пророков в Ветхом завете, обнаруживаются они и в Евангелиях - их выискивали и превращали в горячие уголья мятежные умы Савонарол, Янов Гусов и Иоаннов Лейденских. Но в Библии заключен еще продуманный нравственный кодекс, выискивать который не приходилось - он сформирован ясно и четко. Заповеди "не убий", "не укради", "не пожелай жены ближнего своего", разумеется, беспрестанно нарушались, но тот факт, что они существовали и освящены преданием, игнорировать было нельзя. В человеческом общежитии Древней Руси такой кодекс получил роль сдерживающего и воспитывающего начала. Следование ему было затруднено и почти невозможно, но важно, что подобный нравственный эталон узаконен. И русский читатель той поры все время имел перед глазами мерки, по которым он мог мерить поступки свои и соседские, посадничьи и княжеские. Несовпадение мерок и поступков рождало, как бы сейчас сказали, критическую мысль. Вспыхнув, она порой тут же гасла, но иногда разгоралась. Во всяком случае, уверенность в своей нравственной правоте возникала, а это было уже немало в то жестокое время.
Библия давала чтение на разные вкусы и склонности. "Притчи Соломоновы" и "Екклезиаст" будили скептическое мышление и давали простор далеко идущим умозаключениям. "Все вещи в труде; не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием" - это не абзац из современного труда, а цитата из первой главы "Книги Екклезиаста, или Проповедника".
Книга "Песнь песней", к которой мы обращались в прошлой главе, так же как и псалтырь, заключала в себе образцы лирической поэзии, возвышавшей человеческие души. Эта поэзия переводила неясное и робкое чувство на ясный и страстный язык, обогащала эмоциональный мир человека, показывала ему новые грани и оттенки собственных переживаний.

Но библейские книги не удовлетворяли полностью пытливость русского читателя. Хотелось посмотреть: а что стоит за зеркалом? Желалось узнать подробности о событиях, переданных вкратце. Не терпелось узнать другие версии изложенных канонов истории. И пытливость снабжали подходящей пищей своеобразные произведения, носившие название апокрифов.
Апокрифы - библейские сочинения, по разным причинам не вошедшие в канон, изъятые из официального церковного употребления. В переводе означают "тайные", "сокровенные", и одно это уже должно было обеспечивать им притягательность в глазах читателей. Надо подчеркнуть, что подложными их церковь не считала, но в отличие от канонических они объявлялись творениями ума человеческого, а не боговдохновенными книгами. Церковь веками на многих своих соборах спорила об окончательном составе Библии. Одни части в нее включались, другие изымались. Кроме известных четырех евангелий, существовали иные - от Фомы, от Иакова и других апостолов. "Апокалипсис" долгое время был под сомнением, пока его тоже не признали на одном из соборов канонической книгой. В Ветхом завете еще больше подобных сочинений, отринутых древнееврейскими составителями, но оставшихся в обиходе толкователей Библии, смотревших на них как бы на дополнительную литературу к основному курсу.

Вот эта "дополнительная литература" жадно поглощалась русским читателем, искавшим в ней ответа на самые насущные вопросы. В апокрифах часто билась еретическая мысль. В Болгарии, откуда приходили к нам многие книги, бушевала богомильская ересь, равно опасная для церкви и государства. Официальные обличители богомилов упрекали их в том, - не говоря о чисто религиозных вопросах, - что они учат непослушанию начальству, проклинают богатых, чернят бояр, запрещают рабам работать на господ. Мы видим здесь характерное для средневековья явление - в религиозной оболочке сосредоточивается революционное содержанке. Богомильские апокрифы получили широкое распространение на Руси.
Читателями выбирались апокрифы и не столь радикальной ориентации, но удовлетворявшие чувства справедливости и милосердия. У Достоевского Иван Карамазов в разговоре с Алешей так отзывается об одном из них: "Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого) "Хождение Богородицы по мукам" с картинами и со смелостью не ниже дантовых". Апокриф, упомянутый в "Братьях Карамазовых", действительно впечатляющ. Богородица в сопровождении Михаила-архангела спускается в преисподнюю, где мучаются грешники. Перед ней текут огненные реки, пылают раскаленные столы, высятся плахи и виселицы. Она видит мучения грешников - все людские возрасты, звания и сословия представлены здесь. Всем воздано в меру их проступков и преступлений. Блудники и блудницы, воры и лихоимцы, пьяницы и бражники - это еще мелкая сошка, и мучения их идут ни во что в сравнении с муками убийц, ростовщиков, неправедных и жестоких властителей. Князь или царь, игумен или патриарх не получают снисхождения по своему титулу или сану - кто погружен по горло в огненный поток, кто за ноги подвешен к железному дереву, кого грызет ненасытный змей. Страшное зрелище непомерных мук исторгает слезу Пречистой и побуждает ее обратиться к богу с мольбой о помиловании грешников. Господь, склоняясь на ее просьбы, дает им послабление: ежегодно от великого четверга до пятидесятницы мучения их приостанавливаются.
Можно представить, что волновало тогдашнего читателя в этой "поэмке". Живописная ее сторона должна была сильно действовать на воображение - каждый мог узнать, чего ему надобно опасаться на том свете и чего остерегаться на этом, чтобы избежать подобной участи. Но словесная живопись возбуждала также чувство жестокого равенства перед высшей справедливостью. Пусть оно пока отодвинуто в загробный мир, знаменательно, что возникла сама идея равенства. Один решительный шаг, и она будет перенесена на землю. Богомилы, как мы видели, такой шаг уже сделали.
Другая идея - человечная и человеческая - пропитывает вторую часть поэмы и переходит в апофеоз. Она взывает к милосердию, указывает, что есть границы для наказания, а для сострадания границ нет. Заметим, что сострадание здесь олицетворяется в богородице - идеальном женском образе, который выписан с поразительной силой. Мы восхищаемся старинными ликами рублевских икон, но в нашем примере словесное искусство заслуживает не меньшего удивления. Давние живописцы, в том числе и великие Андрей Рублев и Симон Ушаков, наряду с другими источниками черпали свое вдохновение из произведений, подобных "Хождению". Круг их чтения составлялся как раз из таких сочинений. Обратим внимание на то, что евангельская дева Мария переосмыслена в матерь всего человечества, печалющуюся о его муках и вступающуюся за него пред лицом высшей силы. Лермонтовский образ "теплой заступницы мира холодного" получал свое начало именно здесь.
Жития святых пользовались в Древней Руси еще большей популярностью, чем апокрифы. Житийная литература пересказывала биографии подвижников церкви, уснащая их не только чудесами и нравоучениями, но широко вводя в них бытовой, исторический и психологический материал. Многие жанры здесь представлены как бы в зерне, из которого в дальнейшем вырастал литературный колос. Иные жития напоминали новеллу, другие - повесть, в третьих были зачатки романа. Читали их охотно, это была тогдашняя серия "Жизнь замечательных людей".
История в них модернизировалась применительно к пониманию и знаниям человека русского средневековья. Деяния какого-нибудь мученика, жившего во времена римских императоров, становились похожи на мытарства холопа поры современных княжеских междоусобиц. Бытовая окраска давалась тоже применительно к времени. Вспомните картины итальянских художников раннего Возрождения на евангельские темы. Пейзаж менее всего напоминает Древнюю Иудею, это привычный живописцу тосканский или умбрийский ландшафт. Резиденция Пилата точь-в-точь рыцарский замок, иерусалимский храм - католический собор с чертами романской архитектуры, дом Лазаря - жилище итальянца средней руки. То же самое с одеждой - Магдалина является в пышном наряде римской куртизанки, легионеры Пилата - в доспехах кондотьеров, книжники и фарисеи - в мантиях и шапочках Болонского университета. Художник не задумывался над археологией быта, он ее не знал, да и не хотел знать. Он - как бы мы сказали сейчас - ставил своей задачей передать идею произведения в ее современном воплощении. Евангельское предание придвигалось вплотную, события тайной вечери происходили вчера или позавчера. Живописец иногда рисовал в толпе, окружавшей Христа, самого себя - ощущение соприсутствия владело им в полной мере.
Примерно так обстояло дело и с житиями святых. Переписываемые и дополняемые древнерусским книжником, они приобретали черты современного повествования. Среди канонизированных церковью лиц были князья и рабы, воины и горожане, блудницы и монахини, епископы и чиновники, купцы и крестьяне. Все ступени общественной лестницы заполнены житийными персонажами. Их начальная мирская жизнь, обычно противопоставлявшаяся позднейшей аскетической, изобиловала драматическими коллизиями, красочными приключениями, впечатляющими эпизодами. Переписчик и составитель житий, описывая деяния святых, проходил подлинную школу литературного мастерства. Перед его глазами стояли старые византийские образцы, восходившие к еще более древним эталонам. К Тациту и Плутарху шла традиция жизнеописаний выдающихся людей, и древнерусский книжник приобщался к угасшей культуре Рима и Эллады, сам того не подозревая. И как эллинский кентавр преображался в славянского китовраса, так стройная композиция плутарховских биографий просвечивала сквозь ткань житийного повествования. Книжник учился искусству литературного портрета, усваивал умение типизации и обобщения, овладевал навыками сюжета и фабулы. И когда потребовалось создать жития на собственно русском материале, описать деяния своих соотечественников, вчерашний копиист-переписчик, естественно, вырос в самостоятельного писателя.
Авторы первых русских житий отчетливо представляли патриотическую задачу, стоявшую перед ними. В житиях Бориса и Глеба, Мстислава и Ольги, Феодосия Печерского создавался нравственный идеал подвижников и радетелей земли русской. Неустрашимые, честные, твердые духом, вставали они перед взглядом древнерусского читателя, вызывая его к следованию и подражанию высоким своим достоинствам. К труду житийного писания относились с глубокой ответственностью, рассматривая его как благочестивый подвиг. Характерно заявление одного из таких жизнеописателей: он признается, что, взяв перо, не раз бросал его, "трепетна бо ми десница яко скверна сущи и недостойна к начинанию повести".
Некоторые жития принадлежали перу первоклассных писателей. Так, "Житие Феодосия Печерского" было создано Нестором-летописцем, о котором мы еще получим возможность говорить. Объединенные в обширные сборники, носившие названия "Прологов", "Четий Миней" и "Патериков", жития долго оставались в кругу чтения древнерусских людей.
Познавательная литература пришла на Русь в переводах с византийских и болгарских оригиналов и расширяла умственный кругозор наших предков сведениями, считавшимися необходимыми для образованного человека средневековья. Византия сохранила преемственность культуры, она не пережила, подобно Риму, разрушительных нашествий гуннов и германцев, и античное наследие составило основу ее позднейшей образованности. В прошлой главе, пересказывая биографию Константина Философа, мы дали представление об уровне византийского образования - он был достаточно высок. Школ, равнозначных той, в которой учился славянский просветитель, папский Рим тогда не знал. Людей такой научной подготовки и таких знаний, как патриарх Фотий, как Кирилл и Мефодий, тогдашняя Европа почти не выдвигала. Юная Русь получала в те века от древней Византии не меньше, а, пожалуй, больше, чем, к примеру, Франция или Англия от Рима.
На Руси получили распространение сборники философских изречений, носившие название "Пчелы". Название отвечало характеру сборника: как пчела собирает мед с разных цветов и несет его в улей, так, мол, в этой книге соединены лучшие достижения ума человеческого. Имена Аристотеля, Сократа, Фукидида, Платона, их мысли и заключения густо насыщают страницы этих книг. Популярность приобрели сочинения энциклопедического характера - "Изборники", "Шестодневы", "Физиологи", сообщавшие самые различные сведения - философские, исторические, географические, зоологические, астрономические и т. д. и т. п. Сведения применительно ко времени носили богословскую окраску, объяснения явлений были порой наивными и фантастичными, но познавательное значение материала оставалось велико. Древнерусский читатель получал умственную пищу не только с византийского Юга, но и от средневекового Востока.
Излюбленным чтением была "Повесть об Акире Премудром", пришедшая к нам из далекой Сирии. Сюжет ее укладывается в несколько фраз. Бездетный Акир усыновляет племянника в надежде, что тот станет его достойным преемником. Племянник надежд не оправдывает, он распутник и гуляка, поучения дяди ему тошны. Неблагодарный родич начинает плести интриги против своего благодетеля, и всевидящее провидение наказывает его смертью. Повесть строится как последовательный ряд афоризмов, обращенных премудрым Акиром к молодому человеку. "Сыне, - восклицает, например, Акир, - имя и слава почетнее человека, нежели красота его лица, потому что слава вечно пребывает, а лицо после смерти увядает". Такими поучениями повесть наполнена до краев. По сути, это тогдашний учебник этики, и в качестве такового он имел огромный успех на Руси и долгое время спустя, даже в XIX веке, имел хождение в народе.
Серьезным чтением были также исторические хроники, из которых черпались сведения о Троянской войне, походах Александра Македонского, Римской империи. Любопытно, что широко читалась на Руси "История иудейской войны" Иосифа Флавия. Центральное лицо трилогии Лиона Фейхтвангера, он еще девять веков назад был хорошо знаком нашим предкам. Переведенные с греческого, эти сочинения сообщали русскому читателю представления о связи времен, о непрерывности исторического процесса, побуждали его интересоваться схожими событиями отечественной истории.
Мы говорили преимущественно о книгах, пришедших на Русь из Византии, Болгарии, Востока. Они часто перерабатывались в применении к древнерусской действительности, сопровождались вставками и замечаниями переводчиков, приобретали новый национальный колорит, но оригинальной литературой называть их без натяжки нельзя. Книгам этим принадлежит огромная заслуга в приобщении древнерусского читателя к культурным достижениям человечества, они широко раздвигали его умственный кругозор, помогали ощутить свое место и значение в ряду других народов. Для древнерусского книжника такие книги были подлинной школой литературного мастерства, он усваивал из них навыки не только переводчика, но и писателя. И первые же самостоятельные произведения, вышедшие из-под пера наших книжников, несли уже все черты настоящей литературы. Их отличало ясное представление о цели повествования, хорошее знание предмета, умелое построение, выработанность слога.
Примером такого сочинения может служить "Хождение Даниила Паломника". Оно отразило интереснейшее явление Древней Руси - странствования по белу свету. Путешествие в Иерусалим было освященным церковью предлогом для тысяч любознательных и жадных к новизне людей, стремившихся повидать далекие страны, испытать неизведанные приключения и случайности. Мы помним беспокойного новгородского дьякона-переписчика, на полях строгой книги выражавшего свои дерзкие намерения. "Пойду поя..." - восклицал он, и перед его взглядом рисовались заманчивые долы и горы, реки и моря, где он будет недосягаем для игуменского окрика и строгого монастырского устава. Пойдет он, распевая духовные стихи, а то и мирские песни, по нескончаемой дороге, молодой, независимый, свободный... Куда как хорошо!
Настроения дьякона-переписчика были свойственны большому кругу людей. Былины о Василии Буслаеве и каликах перехожих донесли до нас характеристики и портреты этих скитальцев. Не очень-то благочестивый вид был у них. Былинные калики - дородные молодцы, силачи и красавцы, одетые в цветное платье и шляпы земли греческой. Слово "калики" производят из названия страннической обуви, общей для всей средневековой Европы. Позднее, когда странниками становились обычно убогие и увечные люди, "калики" переосмыслилось в "калеки" и с таким смыслом вошло в наш современный язык. Но калики Киево-Новгородской Руси сами способны были кого угодно сделать калеками. Они организовывались в дружины, которые силами часто не уступали воинским. Дружины выбирали вождей, вводивших в них дисциплину и подчинение. Это были весьма грозные отряды, которым были не страшны нападения со стороны. Когда былинные калики начинают просить милостыню у князя Владимира, то "дрогнула мать сыра земля, с деревьев вершины попадали, под князем конь окорачился, а богатыри с коней свалились". Попробуй отказать таким молодцам в подаянии!
Река явно захлестывала берега, и церковь должна была напомнить паломникам, чтобы скитания не становились самоцелью. "Хождение Даниила Паломника" решало именно эту задачу. Игумен Даниил отправился в Палестину, когда она только что была завоевана крестоносцами. Время первого крестового похода - самая романтическая пора средневекового рыцарства. В свите короля Балдуина он мог встретиться с прототипом пушкинского героя, который, как мы помним,
...Себе на шею четки Вместо шарфа навязал И с лица стальной решетки Ни пред кем не подымал.
Но пока в "пустынях Палестины"... "мчались в битву паладины, именуя громко дым", благочестивый русский монах неспешно объезжал страну, тщательно записывая свои впечатления. Интересовали его - это было целью паломничества - христианские святыни, и он описывал их так, чтобы его соотечественники в Новгороде или Пскове, Киеве или Чернигове, не покидая своих изб и домов, видели их наяву. Предвосхищая туристские очерки наших дней, он простодушно сравнивал знаменитую Иордань-реку с безвестной речкой Сновью. Мой современник - журналист, сравнивший египетские пирамиды с донецкими терриконами, следовал, сам того не ведая, принципам игумена Даниила. Предвосхитил он и другой журналистский прием, предуведомляя читателя, что не может рассказать об увиденном так, как следовало (вспомните испытанную газетную фразу: "К сожалению, обилие материала и размеры статьи..."). Правда, вряд ли современный очеркист наберется храбрости сказать о себе так, как игумен XI века, что, мол, ездил он по загранице "во всякой лености, и слабости, и пьянстве, творя всякие неподобные дела". Ни за что не скажет такие страшные слова мой современник даже в порядке самоуничижения, как и произносил их честный монах, на самом деле ничуть не повинный в возводимых на себя грехах.
"Хождение" игумена Даниила, написанное наблюдательным и понятливым человеком, запечатлевшее выпуклые и четкие картины далеких стран, стало излюбленным чтением русских людей на долгие столетия и послужило образцом для многих последующих описаний подобного рода, в ряду которых можно поместить и знаменитое "Хождение" Афанасия Никитина. Весьма характерно, что одной из главных целей Даниила была молитва за русский народ, которую он возносил в тех местах, откуда она, по его мысли, быстрее всего должна была дойти по назначению. Эта трогательная мотивировка как нельзя лучше обрисовывает нравственный облик давнего путешественника, ощущавшего себя радетелем родной земли в далеких краях.
Проповеди, читавшиеся с амвонов древнерусских церквей, несли в себе большой идеологический и политический заряд: они были призваны утверждать нравственные и догматические основы новой веры, разъяснять церковные и государственные задачи. Обращенные к широкому кругу слушателей и читателей, они должны были сообразовываться с культурным уровнем и духовными интересами самых разных слоев общества. Современный лектор знает, как трудно читать лекцию в так называемой смешанной аудитории - именно к такой аудитории обращались древнерусские проповедники. Проповедь становилась искусством, приобретала черты литературного жанра и как жанр требовала специфических приемов, вырабатывая особый эмоциональный язык, трогавший сердце князя и смерда. Форма гибкая и емкая, тесно связанная по природе своей с текущими событиями, проповедь, несомненно, должна была влиять на развитие других жанров древнерусской литературы.
Так, вполне допустимо, что "Житие Бориса и Глеба" вобрало в себя первоэлементы проповедей, посвященных трагическому братоубийству. Как считается, в княжеской распре, возникшей после смерти Владимира Святого, пробивая путь к власти, Святополк Окаянный (это прозвище он получил вследствие своего преступления) предательски умертвил своих братьев - юных Бориса и Глеба. Проповедь, а затем летопись и житие не могли пройти мимо такого вопиющего события, не только оскорблявшего нравственное чувство народа, но и дававшего благодарную возможность для глубоких политических обобщений. Все распри в молодом государстве братоубийственны, могущественное спокойствие русской земли достигается единением, а единение возможно лишь при условии подчинения старшему в роде - великому князю Киевскому. Идеи, питавшие гений безымянного автора "Слова о полку Игореве", зрели в умах соотечественников еще во времена Ярослава.

Дионис на карабле
Проповедь, влияя на смежные жанры, сама развивалась как жанр. Она приобретает характер торжественных обращений к пастве, получает наименование "Слова", которое потом переходит на произведения вообще повествовательной литературы. Авторы "слов" - авторитетные представители церкви, - сочиняя такие обращения, опираются на многовековой опыт духовного красноречия, воспринятый от Византии.

В "Слове о законе и благодати" первого русского митрополита (до него этот высший пост занимали греки) Иллариона чувствуется рука изощренного и талантливого книжника, знакомого с иноязычными образцами, овладевшего высокой словесной культурой. Свободно и умело пользуется он метафорами и сравнениями, символическими параллелями, риторическими вопросами и восклицаниями. "Ты правдою бо облечен, крепостью препоясан, истиною обут, смыслом венчан и милостынею, яко гривною и утварью златою, красуяся" - таких, с подлинным литературным блеском написанных строк здесь немало.
По содержанию "Слово о законе и благодати" представляет собой возвеличение принятой Русью христианской веры, развернутую хвалу осуществившему эту акцию великому князю Владимиру, обращение к его наследнику Ярославу, как преемнику славных дел отца. Сам Илларион выступает в "Слове" возвестителем не только церковных, но и чисто национальных русских интересов. Он славит Владимира не только как христианского героя, но и расширителя государственных пределов, устроителя земли русской. "Слово" являлось орудием политической борьбы, которую умело и продуманно вел Ярослав Мудрый с помощью таких своих сподвижников, как Илларион. Самостоятельность русской церкви нужно было обосновать традицией, и эту цель преследовало "Слово". Владимир сам решил принять новую веру; сей духовный подвиг принадлежит собственно русскому народу, а не грекам; крестил киевлян их природный князь, а не пришлые люди, настойчиво утверждает Илларион. "Слово" подготавливает канонизацию (причисление к лику святых) Владимира, которой усиленно сопротивлялись византийцы. Наконец, "Слово" укрепляло позиции самого Ярослава, правившего в это время Русью. "Желание прославить настоящее в прошедшем - вот существенный смысл подобных попыток", - говорит глубокий знаток произведений Иллариона академик И. Н. Жданов.
Деятельность Иллариона протекала в середине XI века, но плоды ее ощущались и долго после. Он лишь положил блистательное начало традиции жанра на русской почве. Спустя столетие талантливый и трудолюбивый Кирилл Туровский утвердил за собой авторитет замечательного проповедника, что равнялось тогда теперешней писательской славе. Его, впрочем, вполне можно называть писателем - в сочиненных им молитвах Кирилл заявляет себя подлинным поэтом, в своих "поучениях" и "словах" он предстает как яркий повествователь с образной и красочной речью. Кирилл Туровский истинно поэтичен, когда говорит о духовных предметах, привлекая для наглядности примеры из сущего мира: "Сегодня весна красуется, оживляя земное естество, и ветры бурные, теперь тихо веющие, плоды умножают, и земля, семена питая, зеленую траву рожает; так весна красна - это вера Христова, которая крещением возрождает человеческую природу, бурные же ветры - это греховные помыслы, покаянием претворенные в добродетель".

Проповеди - "слова" и "поучения" - значительное явление древнерусской литературы, оказавшее действенное влияние на ее последующее развитие. Многие талантливые люди использовали эту активную форму общения со своими читателями и слушателями и оставили нам сильные образцы напряженной работы мысли и сердца в те отдаленные времена.
Интереснейшим образцом подобного рода является "Поучение Владимира Мономаха", крупного государственного деятеля Киевской Руси. Илларион и Кирилл являлись монахами-книжниками, им, как говорится, сам бог велел блюсти литературную традицию. Владимир Мономах был светским человеком, правителем огромного государства, книжная словесность не могла поглощать его всецело, у него хватало других забот. И поэтому "Поучение" князя, обращенное к сыновьям-наследникам, осталось показательным свидетельством того, какие глубокие корни пустила в древнерусском обществе новая нравственность, как широко в нем распространилась книжная образованность.
Феодальный властитель в средние века - князь, король, император - далеко не всегда являлся образованным человеком. Он был плоть от плоти своего окружения, перефразируя старую пословицу: каков приход, таков и поп. А во многих "приходах" того времени - во всех этих германских, фландрских, французских княжествах и графствах грамотность была не в почете, к ней относились с нескрываемым презрением, как к праздному занятию монахов-клириков. Благородным делом, достойным князя, считалась воинская потеха, оружием его был меч, а не перо. Храбрые рыцари первого крестового похода - современники Владимира Мономаха - не всегда могли подписать свое имя под грамотами, а книжная премудрость была им недоступна.
И поэтому "Поучение Владимира Мономаха" остается для нас не только знаком личных качеств мудрого русского князя, но и культурно-нравственного уровня его окружения, всего светского общества Киевской Руси. В "Поучении" встает умудренный годами и опытом, широко мыслящий и человечный деятель. На первый план он ставит все время интересы и заботы государства, а потом уже свои. Но крепость и силу государства он ставит в зависимость от соблюдения в нем справедливости и защиту слабых от сильных, бедных от богатых провозглашает основой правопорядка. Мономах - а это просто поразительно в те жестокие времена - призывает быть снисходительным даже к очевидным преступникам. "Всего же паче убогых не забывайте, но елико могуще по силе кормите, и придавайте сироте и вдовице оправдате сами и не вдавайте сильным погубати человека. Ни права, ни крива не убивайте, не повелевайте убить его, аще будет повинен смерти; а душа не погубляйте никакая же хрестьяны".
Владимир Мономах рисует в "Поучении" образ деятельного, трудолюбивого, любознательного человека, каким бы он хотел видеть своего преемника. Он призывает своих детей учиться, как учился их дед Всеволод, усвоивший пять языков (латинский, греческий, немецкий, венгерский, половецкий). Сам Мономах свободно ориентируется в современной ему литературе, обнаруживает знание византийских и болгарских источников. Он в полном смысле слова передовой человек своего времени. "Поучение" написано с большим словесным умением, автора отличает выработанный художественный вкус, соединенный с определенными писательскими навыками.
Древнерусское летописание представляет собой явление удивительное и волнующее. "Повесть временных лет", как называлась наша древнейшая летопись, - это не просто исторический документ, зафиксировавший события большой давности, но подлинно художественное произведение. Нестор-летописец, которому традиция приписывает составление свода, соединял в одном лице таланты историка, философа и писателя. По широте взгляда, стройности концепции, наконец, информированности он часто превосходит авторов средневековых хроник смежных веков и стран. Историю Руси он рассматривает на фоне всемирной истории, жизнь своего народа включает в событийный поток других народов. Племенные, а затем государственные судьбы полян-руси он сопрягает с судьбами всего славянства.
На основании византийских хроник, народных преданий и сказаний летописец воспроизводит события седой старины, вплоть до VI - VII веков, к которым относятся, например, легенды о Кии и обрах. С середины IX века летописцем устанавливается уже последовательное повествование с фиксированными историческими датами. В ткань летописи искусно вплетаются своеобразные новеллы, к ним, кстати говоря, принадлежит знаменитый рассказ, сызнова воскрешенный и снова увековеченный в "Песне о вещем Олеге" Пушкина. Летопись носила характер энциклопедического труда, в нее включены сведения географические и этнографические, отрывки из не дошедших до нас песен и былин, легенд и сказаний. Часто мы можем лишь догадываться, устный или письменный источник был перед летописцем, когда он излагал тот или иной исторический факт. Один ученый прошлого века, К. П. Бестужев-Рюмин, весьма точно определил "Повесть временных лет" как архив, "в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной нашей литературы".
В летописи Нестора немало загадок. Неясными остаются дописьменные века нашей истории. Темное предание о призвании варягов признано недостоверным, оно явно служило оружием политической борьбы в Киевской Руси и в качестве такового и было извлечено на свет летописцем. Но против кого направлялось это оружие? Законность династии Рюриковичей как будто никто не оспаривал. Может быть, однако, существовали осколки прежних династий - Кия и других племенных вождей, вроде Вятко и Радима? Или легенда понадобилась лишь как помпезное обоснование исключительности одного-единственного княжеского рода на Руси?
Летопись молчит о проникновении письменности в дохристианскую Русь. Между тем данные об этом должны были быть под рукой Нестора. Видимо, здесь сознательное умолчание в целях сильнейшего акцентирования успехов просвещения именно в послеязыческую пору.
Иные свидетельства летописи берутся учеными под сомнение. Таково, например, сообщение об испытании "вер" князем Владимиром незадолго до крещения. Владимир, окончательно решив оставить язычество, некоторое время колебался в выборе между христианской, мусульманской и иудейской религиями. Да и в христианской вере нужно было выбирать либо римский, либо греческий образец. Он разослал посольства в разные страны, наказав посланцам хорошо присмотреться к верам, а потом доложить об их слабых и сильных сторонах. Пересказывать все предание не стану, любопытствующие могут заглянуть в первые тома либо Карамзина, либо Татищева, либо Соловьева. Исход дела известен - принята была православная вера. Ну а что, если бы Русь обратилась в какую-нибудь другую веру? Весь ход истории переменился бы... Это, конечно, праздное умствование, но для писателя куда как соблазнительное. Я все подумываю написать на сей сюжет поэму, а то и повесть. И прошу прочитавших эти строки собратьев по перу до поры до времени не перебегать мне дорогу. Летопись, кстати говоря, представляет множество подобного материала. Зацепок для самых дерзких построений с выходами в современность там хоть отбавляй.
"Повесть временных лет" пронизывает живая мысль, она подчинена динамичной концепции. Идея общерусского единства сопрягается в летописи с идеей всеславянской общности - одно это свидетельствует о деятельной работе исторического разума в те годы, когда мысль поневоле была ограничена узкими областными пределами. Народ Древней Руси выглядит у летописца не одиноким, не особые, не отъединенным среди других народов и не противопоставляется им. Признается, что как разнятся языки, так могут разниться и уклады стран и земель. Противопоставление идет по другой линии - просвещения и культуры. Поляне - передовое племя с точки зрения летописца, первым принявшее христианство, - имеют явное преимущество перед древлянами, живущими до сих пор "звериным обычаем". Видимо, для наглядности здесь даже сгущаются краски, чтобы представить выгоды просвещения и невыгоды культурной отсталости. Просветительная тенденция вообще очень сильна в летописи.
Единство нации на том историческом этапе предполагало консолидацию ее вокруг одного центра и одного властителя. Возвеличение Киева и великого князя, сидящего на его столе, представляет постоянную заботу летописца. Осуждаются все центробежные акции младших князей, все их сепаратистские устремления. Все, казалось бы, складывалось не в пользу такой концепции. Феодализм развивался по своим законам, время для централизованного государства еще не приспело. Людовики Одиннадцатые и Иваны Третьи появились четыреста лет спустя. Но мысль летописца передавала биение народного пульса, а этот пульс стучал одинаково во всех частях огромного организма нации, населявшей пространство от Черного до Белого моря, от Карпат до Заволжья. Мысль была глубоко прогрессивной и не только обращалась в будущее, но и в настоящем оказывала действенную помощь людям, заботившимся о сохранении и оберегании Руси.
Наряду с государственным и общественным началом развивалось в древнерусской литературе начало индивидуальное. "Моление Даниила Заточника" в высшей степени заостряет личный мотив в произведении, носящем отнюдь не личный характер. В просьбе, обращенной к князю, впервые в нашей словесности "малый мира сего" формулирует свои притязания на собственное место под солнцем. Он требует, как мы бы теперь сказали, трудоустройства, обращая внимание князя на свои интеллектуальные качества. Он выделяет их как нечто ценное, имеющее в обществе не меньшее значение, чем воинский талант и богатая казна. Изощренный ум и словесное искусство, которыми владеет, по собственному мнению, автор "Моления", должны обязательно найти спрос и применение при княжеском дворе. Духовный товар, которым распоряжается Даниил Заточник, это обычное имущество интеллигента всех времен и народов, и психологический портрет Даниила соответствует положению человека промежуточной общественной прослойки.
Резкая критика социальных неустройств не мешает ему искать место в служебной иерархии. И чтобы подчеркнуть свое право на это место, он, как говорится, показывает товар лицом - цитирует священные и светские книги, острит и злоязычит, всячески демонстрирует свои знания и образованность. В отличие от Мономаха, Кирилла Туровского и безвестного автора "Слова о полку Игореве" в нем живо ощущается интеллигент в первом поколении. Еще не выработалось устойчивое достоинство, нет чувства преемственности, отсутствует внутренняя свобода. В каждой строке ощущается лихорадочная нетерпеливость: а вдруг с таким трудом достигнутое образование - "хороший товар" - пропадет зазря? Вдруг не заметят такое сокровище разума, каким искренне считает себя автор "Моления"? О, это было бы ужасно, но надежды нельзя терять, и Даниил Заточник продолжает свои похвальбы, жалобы, просьбы. Человек слабый, изломанный и, несомненно, даровитый, он вызывает у меня смешанное чувство жалости и неприязни. Будь я на месте Ярослава Всеволодыча, к которому он адресовался, обеспечил бы я ему безбедное житье, но постарался бы держать его от себя по-дальше. Но, вообще-то говоря, Даниил Заточник явление интересное. Такие фигуры могут возникать уже в достаточно сложном и разветвленном обществе, каким и было оно в Древней Руси накануне татарского нашествия.
Вершиной культуры тех времен, одним из самых значительных событий всей исторической жизни русского народа явилось "Слово о полку Игореве". Если бы даже ничего не уцелело после нашествия татар, если бы начисто исчезли все исторические свидетельства, архитектурные памятники, свитки и книги, если бы наглухо забылись былины, песни, предания, а осталось лишь "Слово", мы бы по нему одному смогли судить о невиданном расцвете духовной жизни Киевской Руси. Это действительно великое произведение, впитавшее в себя мысли и чувства, надежды и тревоги, горести и чаяния целого народа. Поражает свобода, с которой оно написано: автор не скован ни литературными, ни религиознодогматическими канонами. Он широко пользуется образами славянской мифологии, не заботясь о том, как посмотрит на это церковь, осуждавшая подобные вольности.
Пушкин первым обратил внимание на иронию, содержащуюся в начальных строках "Слова":
"Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестей о плку Игореве, Игоря Свято- славлича? Начати же ся той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню! Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы. Помняшеть бо, рече, първых времен усобице. Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей, который дотечаше, та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред плки Касожьскыми, красному Романови Святославличю. Боян же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедей пущаше, но своя вещиа прсты на живая струны вскладаше, они же сами князем славу рокотаху".
Такое обращение предполагает сложившуюся литературную традицию, от которой приходится отталкиваться, чтобы не прослыть простым копировщиком прежних образцов. Для автора "Слова" Боян - это "старик Державин", отношение к нему одновременно влюбленное и чуть насмешливое. Буквальный перевод второй фразы: "Пусть же начнется та песнь по [действительным] событиям этого времени, а не по замышлению Боянову". И далее: "Ведь Боян вещий, если хотел кому сложить песнь, то растекался мыслью по древу" и т. д. То есть читателю дается понять, что Бояново красноречие устарело для описания теперешних событий и новый писатель следовать ему не собирается.
Такое начало - чисто литературное, предполагающее споры и размышления о "традициях и новаторстве", - вводит нас в обстановку индивидуального и, пожалуй, даже профессионального творчества. Кем бы ни был автор "Слова" - а догадок множество, - он прежде всего писатель, отлично знающий цену и силу своего мастерства, изучивший старые его законы и создающий новые. Причем писатель экстра-ряда, подлинно великий, разница между ним и Даниилом Заточником - это разница между гением и талантом, мастером и дилетантом.
Каково было его общественное положение? Монах, дружинник, вельможа, княжич? Для монаха он слишком светский и блестящий человек. Светский блеск неминуемо потускнел бы в монастырских стенах, даже если бы прежде рясы человек носил кольчугу. А "Слово" блестит и переливается на полуязыческом солнце, звенит мирскими песнями и утехами, шумит громом браней и походов. Для дружинника слишком свободно говорит он о князьях, судит о государственных делах, оценивает по строгому счету прошлое и настоящее. Для вельможи он чрезмерно раскован, дерзок и молод. Дерзкая полемичность обращения к Бояну, лирика "Плача Ярославны" обличают в авторе человека отнюдь не преклонных лет. Если бы я писал повесть из жизни тех времен, я бы сделал его певцом-воином типа рыцарей-миннезингеров, каким был, например, Фогельсвейде. Киевская Русь была неизмеримо ближе к Европе, чем Русь Ивана Калиты и Московское государство следующих Иванов. Она составляла тогда единое целое с Европой, а не отъединенную ее часть. И культурные процессы протекали в сходных условиях, причем Киевская Русь во многом опережала своих близких и дальних соседей. И появление на общественном, культурном горизонте фигур такого рода представляется мне естественным.
Кроме того, на бесчисленных столах бесчисленных княжеств сидели тогда представители одной династии Рюриковичей. Династия возводила свое начало к скандинавским предкам. Связи со шведско-норвежским севером поддерживались все время. При внутренних неурядицах русские князья искали порой убежища в Скандинавии, а северные короли и принцы убегали в Киев. Княжеские и королевские дома заключали перекрестные браки, жены, вывезенные из других стран, привозили вместе с приданым память об обычаях далекой отчизны. Огромным почетом пользовались на севере скальды - певцы-воины. Они занимали в общественной иерархии одно из служебных мест после короля. В жизни, в быту, на службе всегда многое значит прецедент. Положение скальда было для князей Рюриковичей тем прецедентом, который если не всегда стоял перед глазами, то всегда оставался на памяти.
Сохранились также летописные свидетельства о княжеских ссорах из-за певцов-профессионалов. Имя одного из них, Митюты, дошло до нас, - он был младшим современником автора "Слова". Так или иначе, но тонкая прослойка художественной интеллигенции существовала в Киевском государстве, а профессиональные поэты, певцы-витязи могли занимать определенное место в феодальной иерархии. Таким певцом-витязем мог быть и старый Боян, предшественник автора "Слова", и сам автор.
Нет необходимости пересказывать "Слово о полку Игореве" - читателю оно знакомо со школьной скамьи. Звенящий тоской и надеждой призыв к единению Руси перед лицом вражеского нашествия - таков его лейтмотив, и мы тоже усвоили это определение с ученических лет. Мне хочется здесь обратить внимание на одну его особенность, объясняющуюся национально-историческими условиями, в которых оно создавалось, и своеобразием духовного облика человека, который его создал.
Цветную ткань "Слова" покрывают причудливые и странные узоры. Они готовы порой составить законченный рисунок, но, не дойдя до конца, опять бегут и разбегаются по широкому полотну. Нам эти узоры почти непонятны, но древний мастер наносит их как бы походя, уверенный, что его поймут с полуслова. Двести лет гудит над Русью колокольная медь, а в "Слове" дерзко и маняще звучат имена языческих богов. Упоминаются они не для того, чтобы, перекрестившись, отречься от них, а затем, чтобы подчеркнуть кровную к ним причастность. "Бонне, Велесов внуче", - обращается автор "Слова" к своему предшественнику, возвеличивая его таким обращением. Кстати говоря, не будь этого обращения в "Слове", мы вряд ли бы и узнали, что Велес - скотий бог - был как бы славянским Аполлоном, покровителем искусств. Русичи, соотечественники автора "Слова", - внуки Дажбога и Хорса. Ветры именуются стрибоговыми внуками. Грают в "Слове" босуви врани - священные вороны, кличет Див - загадочное существо, то ли птица, то ли человек, то ли нечисть.
В княжеском терему на кровати из драгоценного тиса снится Святославу чудный сон, где "синее вино с трутом смешено". А князь-оборотень Всеслав "людям судяше, гряды рядяше, а сам в ночь волком рыскаше". А вслед за ним и по его примеру Игорь скачет горностаем, бросается белым гоголем на воду, мчится серым волком, летит быстрым соколом, спасаясь из половецкого плена. Реки в "Слове" - живые существа, они разговаривают, горюют, радуются и то сочувствуют, то противятся людям. Так же ведут себя и другие стихии - ветры, солнце, море.
Автор "Слова" помнит предания такой старины, которую не упомнила летопись. Что это за века трояновы, тропа троянова, земля троянова? Кто такой Троян? Неужели римский император Ульмий Траян, чьи легионы стояли в Дакии, теперешней Румынии, и чья политика на Балканах способствовала их романизации? Но ведь он правил в начале II века, а славяне пришли на Балканы значительно позже. Во II веке и славян еще не было в природе, существовали их предки - венеды и склавены. Но "седьмой век Трояна" - это начало Киевской Руси; даты совпадают. Народная память уходит далеко в глубь времен, и автор "Слова" хранит эту память.
В антскую старину уводят нас строки: "Готские красные девы въспеша на брезе синю морю, звоня рускым златом, поют время Бусово, лелеют месть Шароканю". Смысл строк тот, что поражение Игоря сравнивается с поражением Буса, или Божа, - аптского вождя, которое тот в IV веке потерпел от готов, предков "готских дев". Надо сказать, что в Крыму в те времена сохранялось племя готов-тетракситов, заброшенное туда одной из волн великого переселения народов. В их фольклоре и могло удержаться воспоминание о воинской победе их предков. Автор "Слова" дает прямую ссылку на него это могли быть песни типа скандинавских саг, в которых, как мы знаем, запечатлелись события именно тех давних времен. Поэт Н. Заболоцкий, оставивший нам блестящий перевод "Слова", выражал сомнение в возможности такой долгой памяти и предлагал другое толкование этих строк. Он полагал, что вряд ли имя Буса, или Божа, могло сохраниться в живой речи спустя девять веков. Если принять посредство готской саги, а может быть, и не дошедшей до нас русско-славянской былины, то сомнение отпадает.
Далеко до Дуная от Киева, Чернигова и Новгорода-Северского, но все время в "Слове" слышится имя этой великой реки. И в заключительных строках "Слова": "Девицы поют на Дунае, вьются голоса чрез моря до Киева", - звучит тот же мотив. Легендарная прародина, откуда, по летописи, началось расселение славянских племен по степным и лесным просторам, заявляет о себе в этих упоминаниях. За ней авторитет древности, за ней сила предания, и автор "Слова" скрепляет именем Дуная значимость событий своего повествования.
Все это вместе взятое - языческие звоны и шумы, отзвуки антской и славянской старины, дышащая и волхвующая природа - создает ту причудливую и старинную инструментовку "Слова", которая зачаровывающе действует на слушателя. Удивительная свобода, удивительная раскованность духа чувствуются здесь - ведь другие памятники древнерусской письменности в большей или меньшей степени хранят на себе следы строгого религиозного мироощущения. Если взглянешь на "Слово" с этой неожиданной стороны, поневоле начинаешь глядеть под новым углом зрения на всю киевскую культуру. Видимо, она была еще богаче, живее, оригинальнее, чем нам думается. Цветные нити славянской старины перевиты в "Слове" со свежими побегами исторического самосознания. Народная мифология насыщает реальный мир живыми образами и понятиями. Русская земля фантастична в своей реальности и реальна в своей фантастичности - таково мое ощущение от музыки "Слова".
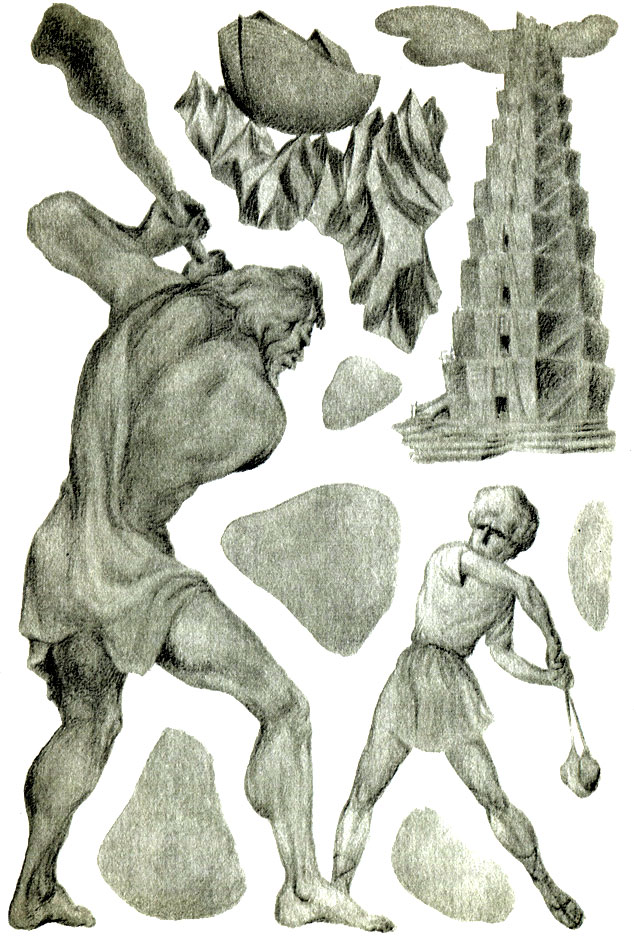
Мифы Ближнего Востока
Мы знаем, ради чего оно было написано и какую роль выполнило накануне катастрофы, постигшей Киевскую Русь. Мы об этом говорили уже не раз, повторяя во многом то, что вам было известно и без нашего напоминания. Мне хотелось добавить к сказанному, что не в его власти было приостановить разъединение Руси и замедлить движение татарских орд. Но безмерно важно то, что предостерегающий голос раздался. Голос тоски и надежды, горечи и упования. И он до сих пор бередит нам сердце. В критические минуты истории такой голос вбирает в себя тысячи других, и эхо его долго отдается в столетиях.
Мы не коснулись многих струй, образующих "Слово". Властная лирическая сила "Плача Ярославны" трудно поддается анализу. Поэт К. Случевский писал так:
Ты не гонись за рифмой своенравной И за поэзией - нелепости оне: Я их сравню с княгиней Ярославной, С зарею плачущей на каменной стене. Ведь умер князь и стен не существует, Да и княгини нет уже давным-давно; А все как будто, бедная, тоскует, И от нее не все, не все схоронено. Но это вздор, обманное созданье! Слова - не плоть... Из рифм одежд не ткать! Слова бессильны дать существованье, Как нет в них также сил на то, чтоб убивать... Нельзя, нельзя... Однако преисправно Заря затеплилась; смотрю, стоит стена; На ней, я вижу, ходит Ярославна, И плачет, бедная, без устали она. Сгони ее! Довольно ей пророчить! Уйми все песни, все! Вели им замолчать! К чему они? Чтобы людей морочить И нас, то здесь, то там, тревожить и смущать! Смерть песне, смерть! Пускай не существует!.. Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!.. А Ярославна все-таки тоскует В урочный час на каменной стене...
Нам, пожалуй, нечего к этому добавить.
"Слово" появилось за три с половиной десятилетия перед битвой на Калке и за полвека до главной сокрушающей волны Батыева нашествия. Рухнула в дыму и пламени блестящая культура Киевской Руси. Копыта татарских лошадей растоптали ранние всходы образованности и знания. Литература и искусство, которые встали, возможно, на пороге восточноевропейского Ренессанса, были прерваны в своем развитии. Археологи обнаружили пустые слои земли при раскопках Киева XIV - XV веков. Почти два века никто не селился на месте уничтоженного города. Покрылись травой руины княжеских дворцов, заросли бурьяном остатки крепостных стен, ушли под землю мостовые рынков и площадей. Судьба Киева символична - новый город стали строить на старом месте, но он уже был другим и мало чем напоминал прежний.
Так произошло и с русской государственностью и культурой. Ведь конец Киевской Руси знаменовал крушение не только "империи Рюриковичей", но и цельного существования древнерусской нации и культуры. С конца XV века мы уже имеем дело с тремя различными национальными организмами: русским, украинским, белорусским. Они близки между собой, их соединяет кровная и духовная связь, но развиваются они уже по-разному и пути их особые. И все же, несмотря на особость, они будут тяготеть друг к другу, пока не воссоединятся в одном государстве. Память об общем начале, о юном и зеленом древе киевской государственности будет равно дорога им и доживет до нашего времени.
Почему и зачем написана эта глава?
Два с половиной столетия разделяют буквы на глиняной корчаге из Гнездниковского городища и цветную словесную вязь "Слова о полку Игореве". Мы увидели, как зацвело, расцвело и заплодоносило в этот короткий срок живое чудо русской письменности. Ведь исторически такой срок - а мы ведем его буквально от нуля - впрямь предельно краток. И вот в ограниченное время создана сильная, щедрая, разветвленная литература. Появились читатели и ценители ее, круг их ширился и вбирал в свою черту все слои общества. Рождались новые жанры, которые должны были удовлетворить вкусы и потребности разнородной читательской среды. С первых своих шагов литература включилась в политическую и идейную борьбу, прочно связала себя с интересами общества и государства. Литература в отличие от фольклора немыслима без индивидуального творчества, она хранит и запечатлевает почерки своих создателей. Первые русские писатели Илларион и Нестор, Кирилл Туровский и Даниил Заточник, наконец, великий автор "Слова" - это ярко выраженные дарования, которые невозможно смешать между собой.

Скандинавский эпос
На примере другой страны, другого народа, другого языка тоже можно было бы показать, как письменность, назначенная для узкопрактических целей ("гороухша"), постепенно стала служить духовно-интеллектуальным нуждам ("Слово о полку Игореве"). Но, не говоря о том, что добра от добра не ищут и наш пример ближе и доступнее, редко происходит в истории такое стремительное становление литературы, как в Древней Руси. Кроме того, мы можем наблюдать это становление в четко очерченных рамках сжатого исторического периода, что представляет неоспоримые преимущества наглядности.
Письменность знаменовала крупнейший переворот в духовной жизни человечества. Одним из великих следствий этого переворота явилось возникновение литературы. К рассмотрению ее особенностей мы перейдем в следующей главе.
|
ПОИСК:
|
© LITENA.RU, 2001-2021
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'