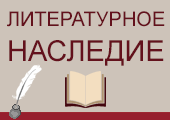
04.09.2007
Хит-парад критики и публицистики в толстых журналах начала лета
Пришла пора обозреть публицистику, литературную критику, эссеистику и мемуаристику шестых номеров «Нового мира», «Октября» и «Знамени» (а также пятого номера «Октября»). В этот раз авторы увлеклись темой словарей. Прямо-таки, словарная лихорадка. Представляю очередной хит-парад жанров.
13. Ирина Сурат. Сальери и Моцарт. «Новый мир», № 6.
При выведенных мной за рамки обзора мемуарах Руслана Киреева «Пятьдесят лет в раю. Избранные годы» («Знамя», № 6) - не повторяться же, рассказывая о них - бесспорным фаворитом хит-парада становится качественное, подробное и многоаспектное литературоведческое исследование Ирины Сурат, посвящённое маленькой трагедии Пушкина. Если вы хотите узнать историю толкований этого классического произведения - обращайтесь к статье Сурат.
12. Андрей Мирошкин. Невидимые рельсы. В лабиринте упразднённых маршрутов. «Октябрь», № 5.
«Гламурное искусство так ужасно, так безвкусно, так тошнотворно! И оно наступает, оно вытесняет высокую культуру в пещеры и катакомбы!» На наших глазах рождается новая наука; я бы её назвал «криптокраеведение» (авторское определение - «палеотопография» - точнее, но не так интригует). У каждого города есть свои тайны; у Москвы их немерено. Серия очерков Андрея Мирошкина повествует о странных московских транспортных коммуникациях - о «параллельном метро», о железнодорожных ветках, ведущих в никуда, о трамвайных рельсах, по которым давно не ходят трамваи. Читается мирошкинский текст с великим интересом. Надеюсь, что он станет главой большой и увлекательной книги.
11. Максим Кронгауз. Лексикографический невроз, или словарь как способ поговорить. Алла Латынина. Словарь как литературный жанр. «Новый мир», № 6.
Языковед и литературный критик исследуют характерный феномен «как бы словаря» (когда художественное произведение притворяется словарём, примеряя на себя его форму). Подход Кронгауза академичен (вопреки заголовку его статьи) и довольно широк (в поле зрения Кронгауза попадают и книги Кати Метелицы, и многое иное). Алла Латынина более импрессионистична и локальна; она рассматривает вышедшее недавно сочинение Сергея Чупринина «Литература. Жизнь по понятиям» и подмечает в его отношении много тонких наблюдений.
10. Александр Мелихов. Острова, которых нет на карте. «Октябрь», № 6.
К разговору о «как бы словарях» и «жизни по понятиям» присоединяется узнаваемый доброжелательно-скептический въедливый голос известного прозаика; так круглый стол (форум, симпозион) перешагивает границы одного журнала и выплёскивается на страницы смежных изданий.
9. Роман Солнцев. Встреча в длинном коридоре. «Знамя», № 6.
Воспоминания о Викторе Астафьеве.
8. Владимир Цуканихин. Сеятель Пропалов. «Знамя», № 6.
Трогательный очерк об очередном русском провинциале-подвижнике - о жителе Вязьмы Павле Никифоровиче Пропалове, создавшем в своей квартире музей Есенина (замечу: исключительно на собственные средства). А сколько таких бескорыстных (и беззащитных) Пропаловых по всей Руси - знает один Бог. Пока они не вывелись, Русь будет стоять.
7. Мария Ремизова. Путешествие на край ночи. «Октябрь», № 5.
Рецензия на роман Ольги Чигиринской «Сердце меча» (межгалактическую фантазию по мотивам жюльверновского «Пятнадцатилетнего капитана»). Переходящая в нетривиальные размышления о мотиве путешествия, о метаморфозах литературных жанров, и о специфике мировосприятия современных людей.
Сноски (от 6 до 2 баллов)
6. Жанна Галиева. Поэзия. День восьмой. «Октябрь», № 6.
Развёрнутый отчёт (рапорт) о праздновании в Москве Всемирного Дня Поэзии.
5. Мария Зеленова. Ленин и «Дикая орхидея» для Тома Сойера. Анна Самусенко. Вновь немца нам в учителя. «Октябрь», № 5.
Биеннале. Задолбали.
4. Георгий Авдошин. Наедине со светом. «Октябрь», № 5.
Жеманный и предсказуемый донельзя эссей: «а ля философия фотографии». О да, фотография - это не просто так. Там и проявитель с закрепителем, и Хайдеггер с Ясперсом, и логос с дискурсом, и тангенс с котангенсом.
3. Наталья Иванова. Сюжет упрощения. «Знамя», № 6.
Критикесса неподеццки взялась за гламур. Скрепя сердце она признаёт, что гламур несёт в себе некую пользу (отвлекает от социальных противоречий, к примеру). Но ведь гламурное искусство так ужасно, так безвкусно, так тошнотворно! И оно наступает, оно вытесняет высокую культуру в пещеры и катакомбы! О, ужас, оно лапает своими грязными щупальцами классику! Акунин посягает на Достоевского, Бортко экранизирует и популяризирует Булгакова; венец кошмара - Дарья Донцова рассказывает о том, как в детстве играла в догонялки с Чуковским. С нашим Корнеем! Который был вхож к самому Пастернаку! Этой Донцовой в масть догонялиться лишь с Софроновым и Ермиловым (ну, с Фединым, на крайняк), а она…
Перевёдём дух, присмотримся повнимательнее и выявим рассадник процветающего гламура (причём далеко не акунинского по качеству)… в журнале «Знамя», коим (со)руководит наша воительница. Вот так сюрприз! По последним данным разведки мы воевали сами с собой…
2. Евгений Сидоров. Рассуждение о писателе Пьецухе. «Знамя», № 6.
Воистину загадка: с чего на литератора Вячеслава Пьецуха обрушился столь неистовый шквал комплиментов (вот уже и бывший министр культуры РФ Е. Сидоров присоединяется)? Пишет Пьецух однообразно; а в последнее время он вовсе покинул пределы литературы, уйдя в «разговорный жанр», но и там не преуспел, премного уступая Задорнову.
Похвалам в адрес Пьецуха непременно сопутствуют обороты типа «русская душа», «сметливый русак», «последний русский». Скорее всего, в некоей незримой канцелярии Пьецух проходит по графе «русское» и «отвечает за русских» (подобно тому, как Герман Садулаев «отвечает за чеченцев»). Однако в работу канцелярии вкралась ошибка: русские не такие.
Опечатка (1 балл)
1. Фёдор Ермошин. Универность. «Октябрь», № 5.
МГУ. Грозное здание. Готическое. Цитадель науки. Обитают там учёные люди. Жалко их, ботанов. Реальной жизни не знают. Ни одного живого лица. Нет, иными должны быть университеты; они должны быть «сообществами вольных искателей истины», «приютами юных романтиков»…
Не знаю, на каком курсе МГУ учится Фёдор Ермошин. Надеюсь, что на первом. Ибо к третьему курсу у нормальных студентов подобные настроения исчезают без следа.
Источники:
|
ПОИСК:
|
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'