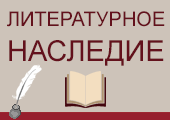
С. М. ТОЛСТОЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ "ТОЛСТОЙ И ТОЛСТЫЕ"
(Serge Tolstoi', "Tolstoi' et les Tolstoi". Paris. Hermann, 1980.)
В энциклопедических справочниках на букву "Т" можно найти биографии многочисленных представителей рода Толстых: военные, государственные деятели, дипломаты, министры... Многие из них - значительный процент, говоря языком статистики, - прославились как выдающиеся деятели литературы, музыки, изобразительного искусства: первый из них, Петр Андреевич Толстой, сподвижник Петра I, помимо других талантов - дипломата, государственного деятеля - обладал также и несомненным литературным талантом; Феофил Матвеевич Толстой (1809 - 1881) известен как романист, музыкальный критик и композитор; Николай Сергеевич Толстой (1812 - 1875) - автор "Заволжских очерков" (1857); Алексей Константинович Толстой (1817 - 1875) - поэт, драматург, создатель популярных исторических романов; Алексей Николаевич Толстой (1882 - 1945) - советский писатель, автор "Детства Никиты", "Хождения по мукам", монументального исторического романа "Петр I".
Мать одного из великих русских поэтов Федора Тютчева была урожденная Толстая. Поэтесса Мария Каменская и художница Екатерина Юнге - дочери Федора Петровича Толстого, художника, скульптора, медальера, работы которого представлены в экспозиции Государственного Эрмитажа и других советских музеев.
Примечательно, что представителям толстовского рода свойственно долголетие. Если подсчитать средний возраст пяти поколений предков Льва Толстого (исключая его родителей, рано умерших), он составит 68 лет, что было редким в ту отдаленную эпоху. Долголетию представителей рода Толстых сопутствовала плодовитость.
В генеалогическом древе Толстого среди его предков мы обнаруживаем исключительно русские и знатные фамилии. Прародители одного из величайших русских писателей были родовитыми аристократами, гордившимися знатностью породы в 32 коленах.
Но Лев Толстой своим обликом не походил на этих представителей придворной знати. Его мощный торс, толстый нос с широкими ноздрями, большие уши, маленькие серо-голубые глаза, объемистый лоб, весь его физический склад обличали в нем деревенского жителя и в то же время русского барина.
Художник Репин говорил, что "всякое другое лицо скучно и нелюбопытно после его лица, крупные черты которого будто вырублены топором".
Те современники, кому посчастливилось встречать Толстого, отмечали как главную особенность его облика сочетание в нем черт мужицких и аристократических: мужицкая борода, грубые, привычные к физической работе руки, простая, наподобие крестьянской одежда; но в его осанке до конца дней сохранилась такая величавость, что рядом с ним, хотя он был среднего рода, все казались меньше, стушевывались; он начинал говорить - и всех зачаровывали сдержанное достоинство его речи, благородство и грация жестов.
В своих воспоминаниях Горький рассказывает о почитателях Толстого, которые, обманувшись демократическим обликом Льва Николаевича, попробовали было обратиться к нему в простонародно-фамильярном духе: "И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода". А ведь это было в последние годы жизни, когда в течение многих лет Толстой утверждал, что нет другого идеала, кроме простой мужицкой жизни, и проповедовал опрощение.
Однако задолго до этого Толстой написал предисловие к "Войне и миру", которое, впрочем, не было им напечатано, где он пытался объяснить свой взгляд на вещи и свой выбор персонажей. В этом тексте обнаруживаются его аристократические предрассудки. Он формулирует вкратце, что: 1) свидетельства об эпохе, которую он описывает, сохранились только в мемуарах и переписке образованных представителей высших классов; 2) жизнь чиновников, купцов, мужиков, семинаристов представляется ему монотонной и скучной, а их поступки определяются мелкими интересами; 3) жизнь низших слоев общества не отражает характера описываемой эпохи; 4) ему непонятен образ мыслей простонародья; 5) он принадлежит к аристократии и гордится этим и за это счастье благодарит бога. И если этот счастливый удел достался не всем, отсюда еще не следует, что надо его порицать.
Странно, как под пером Толстого мог возникнуть этот текст, скорее похожий на какой-то реакционный манифест, чем на profession de foi романиста.
Можно предположить одну причину: как художник Толстой не считал для себя возможным писать о том, чего он не знает. А то, что он знал превосходно, была жизнь помещиков и крестьян, что и запечатлено в его произведениях.
С годами Толстой отдалился от своей среды и приблизился к простым людям, к народу.
"Достаточно было выглядеть оборванцем или отщепенцем, чтобы возбудить интерес в Льве Николаевиче; зато эполеты, аксельбанты, генеральский чин и всякий выдающийся пост внушал ему непреодолимое отвращение", - иронизировала Александра Андреевна Толстая.
Мало-помалу чувство аристократической гордости трансформировалось в нем в чувство вины перед всеми обездоленными. Тогда родился другой Толстой, из легенды: пророк, святой, еретик...
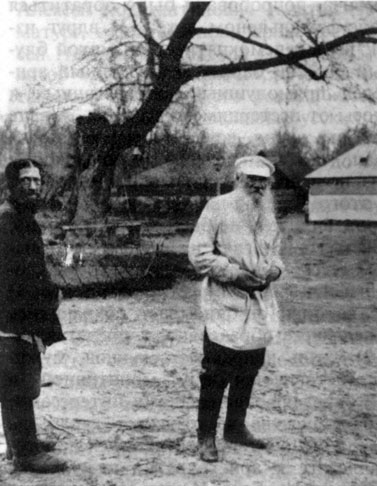
Л.Н. Толстой и крестьянин-посетитель. Ясная Поляна. 1908 г. Фотография С.А. Баранова

Л.Н. Толстой и его посетительница. Ясная Поляна. 1908 г. Фотография К.К. Буллы
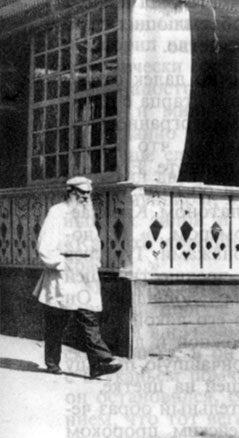
Л.Н. Толстой и его посетительница. Ясная Поляна. 1908 г. Фотография К.К. Буллы

Л.Н. Толстой с группой учащихся Пречистинских вечерних курсов для рабочих. Ясная Поляна. 1910 г.

Л.Н. Толстой и его ученики. Ясная Поляна. 1908 г. Фотография П.А. Сергеенко

Л.Н. Толстой на косьбе. 1890 г. Фотография Адамсона
Но стоит вдуматься, чтобы понять, что это был все тот же человек, иначе говоря, один из тех всеобъемлющих гениев, которых когда-либо порождало человечество.
Реальный образ Льва Толстого бесконечно далек от лубочной картинки, изображающей смиренного старца с длинной белой бородой. В действительности многогранность и богатство этой человеческой личности таковы, что всякий раз невозможно охватить его во всей его полноте. Его сын Илья был совершенно прав, когда говорил об отце: "...Он был в одно и то же время Наташей, Платоном Каратаевым, Брошкой, княжной Марьей, Холстомером..." И, добавим мы, многими другими своими персонажами. Тургенев сказал однажды Толстому, что в своей предшествующей жизни он (Лев Толстой) был, по-видимому, лошадью. Он был наверняка также и буйволом, судя по его дикой горячности и упрямству, и слоном с его осторожной и деликатной силой, позволяющей ему собирать тончайшую пыльцу с крыльев бабочки, на мгновение застывшей на цветке.
Из Толстого делают архетип - собирательный образ человека 19 века; его сравнивают с библейским пророком Исайей; Стефан Цвейг видел в нем воплощение бога Пана, В. И. Ленин - зеркало русской революции...
И он был и тем и другим и таил в себе еще многие лики: апостол непротивления и геройски сражавшийся офицер, защитник Севастополя, вегетарианец и азартный охотник; когда он был молод, братья считали его пустяшным малым; когда он стал клониться к закату, толстовцы почитали его, как святого; юный денди, он приходил в отчаяние оттого, что один ус у него чуть короче другого, и презирал тех людей, которые не носили перчаток, но он желал посвятить свою жизнь цели общей и полезной для всего человечества и употребить всю свою энергию для достижения наивысшего духовного совершенства...
Толстой хорошо знал свои многочисленные недостатки и неукротимое бешенство своих страстей, вот почему он писал: "Я из тех людей, кто старается тренировать себя... Если меня считают человеком, который не может ошибаться, то каждое мое заблуждение должно казаться в таком случае ложью или притворством, но если думают, что я человек слабый, то я оказываюсь тем, каков я на самом деле".
Вот случаи, о которых я знаю по рассказам моего отца. Когда стало известно о падении Порт-Артура (это было во время русско-японской войны в 1904 году), Толстой воскликнул: "Как они могли сдаться! Надо было взорвать крепость..." Сказав это, он замолк и стал мрачным. В нем заговорил вдруг воин, офицер-артиллерист из осажденного и героически сопротивляющегося Севастополя; другой Толстой - апостол непротивления, автор статей против патриотизма и милитаризма, противник военной службы - неожиданно утратил дар речи.
И еще случай - во время прогулки по Москве Толстой встретил двух офицеров с великолепной выправкой, затянутых в мундиры, в касках, сверкающих на солнце. Восхищенный их силой и величественной осанкой, он воскликнул: "Как это хорошо, когда человек так красив, как это прекрасно!.."
Кажется, это было в последний год его жизни: во время верховой прогулки на Делире - его любимой лошади - Толстой вдруг заметил зайца, прошмыгнувшего между конских копыт, и он пришпорил лошадь, пустил ее в галоп и с атуканьем помчался вслед, но через несколько мгновений он остановился, сконфуженный, заметив про себя с удивлением, что тот вегетарианец, каким он стал, вдруг стушевался, уступив место азартному охотнику, каким он был в молодые годы.
Несмотря на многочисленные изменения, произошедшие в мире после его смерти, Толстой остался притягательным для всех, и это потому, что его "реакции" на прикосновения бытия, его ответы на главные вопросы жизни - реакции и ответы нормального человека, они близки каждому.
"Он говорит и пишет то, что каждый человек думает, боясь, однако, в этом признаться", - писал о Толстом Ромен Роллан.
Но если обыкновенный смертный "не холоден, не горяч, а тепел" и ограничен в своих возможностях, то Толстой соединил в себе удивительным образом нормальные инстинкты с аномальной чувствительностью и темпераментом.
Можно рассматривать как феномен толстовского дуализма соединение в одном индивидууме мужского начала с его исключительной аналитической направленностью интеллекта и чисто женской способности к слиянию с другим существом.
Его душа и его разум постоянно настороже, подкарауливая с неусыпной бдительностью все, что может быть интересным и занимательным для человека его времени. Как и всем людям, ему свойственно стремление к счастью и потребность обыкновенных житейских радостей; ему нужна была дружба, любовь, семья; он увлекается спортом, игрой в карты, охотой... И в то же время он испытывает, как никто другой, нравственные страдания от несправедливости, социального неравенства, насилия и вражды.
Ему свойственны почти болезненное беспокойство мысли и страх смерти. Он чувствовал все то, что чувствует каждый из нас, но с совершенно особой глубиной, остротой и силой. И во всех своих произведениях он описывает чувства и реакции обыкновенных людей в их столкновении с проблемами повседневной жизни, и каждый узнает своего приятеля, брата или самого себя. "Искусство, - писал Толстой, - это деятельность, которая позволяет человеку действовать на себе подобных особого рода внешними знаками, внушающими те чувства, которые пережил он сам".
Можно утратить ощущение его гениальности, если пытаться расчленить на разрозненные куски то, что соединено в нем: писатель и моралист, педагог и спортсмен, христианин и революционер, рассказчик, эрудит, прожигатель жизни...
Но еще больше, чем жажда наслаждения, его сжигала жажда познания. Свидетелями его огромной духовной работы, стремления проникнуть во все сферы человеческого знания, знать как можно больше, если не все обо всем, остались книги, которыми он окружил себя.
Когда он получил по разделу Ясную Поляну, Яснополянская библиотека насчитывала около 600 томов. После его смерти в ней оказалось 22 тысячи книг, и в большинстве из них имеются его пометы. Здесь и брошюры, учебники, краткие руководства по агрономии, пчеловодству, медицине, ветеринарии, математике, географии; множество исторических и философских трудов; сочинения о морали, праве и многом другом и, конечно же, множество произведений художественной литературы, древней и новой, современной. И притом разноязыкой. С отроческих лет Толстой свободно читал на нескольких европейских языках. Ему было уже за пятьдесят, когда менее чем за год он освоил древнегреческий и древнееврейский языки, чтобы читать в подлиннике "Илиаду" и Евангелие.
Он никогда не довольствовался усвоением готовых формул и выводов, но все проверял и испытывал своим острым критическим умом. "Все, что он познал за свою долгую жизнь, он познал самостоятельно, ценой упорного, увлеченного труда", - свидетельствовала о нем его жена. Его работоспособность была огромна, он мог воспринять и запомнить поистине баснословный объем информации.
Толстой не останавливался на полпути, если решал во что бы то ни стало научиться чему-нибудь: пахать, косить или тачать сапоги. В юности, увлеченный картежной игрой, он терпеливо изучал правила и тонкости игры, чтобы добиться безусловного выигрыша, однако безуспешно! Став писателем, он составлял для себя правила, которым надо следовать в литературной работе.
Когда он отдавал свой текст издателю, он мучил его бесконечной правкой корректур, выверяя и исправляя в тексте все до последней запятой. Он был неутомим, работая над своими рукописями. Так, например, портрет Катюши Масловой в "Воскресении" он переделывал 20 раз! Как рассказывал мне его биограф и секретарь Н. Н. Гусев, Толстой в течение трех лет 105 раз приступал к переработке 4 страниц заключительной главы одного из своих религиозно-философских трактатов.
До самой смерти он стремился к совершенствованию во всем, не только в деятельности интеллектуальной, но и в деятельности тела; он был в постоянной беспощадной борьбе со своими слабостями и страстями. Подобно тому, как опытный объездчик умело и ловко набрасывает узду на молодую чистокровку, до поры до времени свободно резвившуюся в поле, Лев Николаевич от начала и до конца своих дней был собственным тренером и укротителем.
В последний год жизни Толстой говорил своему секретарю В. Ф. Булгакову: "Обыкновенно думают, что производительный труд - плотничать, пахать, ходить за скотиной единственно ощутимая и полезная вещь, тогда как внутренняя работа души - нечто несущественное, нестоящее, то, что можно делать и можно не делать. А между тем, всякая другая работа, кроме этой, бессмысленна; только внутренняя работа души укрепляет разум и помогает любить ближних. По-настоящему нужна только эта работа, и всякий другой труд полезен только в той мере, в какой он способствует этой внутренней работе, важнейшей в нашей жизни.
Надо не столько стараться делать добро, но быть добрым, не столько стараться светить, но быть чистым. Представьте, что ваша душа помещается в хрустальной вазе, и вы можете содержать сосуд в чистоте по своему усмотрению. Чем чище хрустальная поверхность, тем ярче свет истины как для самого себя, так и для других.
Часто мы говорим и думаем, что не можем делать то, что должно, из-за тех обстоятельств, в которых мы находимся. Как это неверно! Внутренняя работа, которая и есть истинная жизнь, всегда возможна. В тюрьме, в болезни, лишенный всякой внешней активности, униженный, истязуемый, ты тем не менее хозяин своего внутреннего мира".
А. М. Горький в своих воспоминаниях выразил свои впечатления от встреч с Толстым восклицанием: "Это человек-оркестр!"
Но можно ли расслышать, различить все те голоса, что слились в этом человеке-оркестре? О том, чтобы все понять и тем более объяснить, не может быть и речи. Цель более скромная: в этой книге предлагается читателю путь, еще мало изведанный, на мой взгляд, который позволяет приблизиться к великому явлению, не упрощая его. Не следует забывать, что Толстой, как бы ни поражала его своеобразность, был, как и каждый из нас, всего лишь звеном огромного генетического целого, выступающего из глубины времени, и что на его судьбу повлияла среда, окружавшая его в детские и юношеские годы.
Мой отец, рассказывая мне о своем отце - Льве Николаевиче, - находил в нем слитыми характеристические черты Волконских и Толстых. Доминирующей чертой характера первых был "разум", тогда как вторых - "сердце". И действительно, всю свою долгую жизнь Лев Николаевич балансировал между требованиями логики и побуждениями своего великодушного сердца. С одной стороны, позитивист - и в этом как нельзя более дитя своего века, с другой стороны - натура всецело религиозная; его оригинальность основывалась на этой антиномии, являвшейся причиной непрерывного внутреннего конфликта, что, впрочем, дало ему совершенно особое место в истории философской мысли. В различные моменты его жизни и в разных обстоятельствах то одно, то другое начало преобладало в нем.
Сам Толстой часто отдавал предпочтение разуму как решающему началу; он достигал превосходства в гимнастике ума и упивался ею, но в то же самое время он относился к логическому началу и недоверчиво-презрительно, допуская, что одного интеллекта не всегда достаточно для решения религиозно-философских вопросов, содержащих в себе иррациональное начало. Вот как писал об этом в своем Дневнике
28-летний Толстой 21 марта 1856 года:
"Самой большой ошибкой моей жизни было полагаться на разум там, где надо было полагаться на чувство, то, на что совесть указывает как на зло, несправедливость, неправду, гибкий и ловкий ум трансформирует в положительные явления".
Убеждение моего отца относительно антагонистического противостояния в Толстом двух наследственных начал, интересное само по себе, представляется всего лишь частью истины. Эта проблема не так проста. Невозможно определить наверняка то генетическое наследство, которое получил Толстой и которое возобладало в нем как доминирующее.
По данным генетики известно, что через гены могут обнаружиться в человеке физические и психические черты его отдаленного предка. Что же касается психологии в наиболее широком значении этого термина, то установлено, что для формирования человека решающее значение имеют впечатления первоначальных лет жизни и характер взаимоотношений в семье.
Вот почему мне кажутся небесполезными разыскания, может быть, несколько импрессионистические, характерных черт, пусть даже второстепенных, в других представителях толстовского рода; в их облике угадываются разные стороны многогранной личности Толстого.
В самом деле, разве не вспоминаем мы Льва Николаевича, восхищаясь интеллектом Петра Андреевича, первого графа Толстого? Не угадываем ли мы черты его характера в гордом ригоризме князя Николая Сергеевича Волконского, великодушной щедрости Ильи Андреевича и даже суеверности Пелагеи Николаевны?
А страсти и заблуждения молодого Толстого? Разве они не заставляют нас вспоминать о Федоре Толстом - Американце с его чувственностью и картежной страстью?
И разве в чем-то не был Толстой племянником своих тетушек - педантичной и светской Полины и кроткой милосердной Алины? Разве стремление к постижению веры разумом не роднило его с теткой-другом Александрой Андреевной Толстой? И разве не унаследовал он аристократичность, воображение и чувствительность своей матери, ум, отвагу и доброту отца?
Представляется, что на этом наследственном фоне выступают три главные черты: аристократизм, идеализм, художественность.
К великосветскому понятию чести - в этом брат Сергей был великолепный образец - Лев добавил чувство безусловного долга, и не только по отношению к самому себе, но и к миру в целом.
Если идеализм брата Дмитрия и его поиски нравственной чистоты были только лишь эпизодом его краткой жизни, то Лев ушел дальше в своем развитии и приблизился к идеалу, которого брат его не смог достичь.
Что же касается брата Николая - он не употребил в дело свой литературный талант; из-за лени и отсутствия авторского самолюбия он остался всего лишь дилетантом.
Будто волшебством сказочной феи все это соединилось в Льве Николаевиче, позволило ему извлечь все лучшее из тех артистических и интеллектуальных задатков, какие он унаследовал, и создать то, что мы называем гением. Или, иначе говоря, он творил самого себя, оперируя богатством наследственных элементов, доставшихся ему от предков.
"Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким как все. Но отчего это происходит? Несогласие ли - отсутствие гармонии в моих способностях, или действительно я чем-нибудь стою выше людей обыкновенных? Я стар, пора развития или прошла или проходит, а все меня мучат жажды... не славы - славы я не хочу и презираю ее, а принимать большое влияние в счастье и пользе людей. Неужели я-таки и сгасну с этим безнадежным желанием?"
Когда Толстой писал эти строки в своем Дневнике 29 марта 1852 г., ему еще не исполнилось 24 лет.
Эту мысль он выразил более конкретно три года спустя, во время Крымской войны, в осажденном Севастополе, в обороне которого он принял участие офицером-артиллеристом, находясь на 4-м бастионе, под шквальным огнем противника. Казалось бы, условия места и времени отнюдь не благоприятствовали подобным размышлениям: попойки офицеров, в которых он принимал участие, чтобы посреди всех этих ужасов войны отвлечься, забыться; игра в карты, которой он отдавался самозабвенно, не будучи в силах вовремя остановиться... Тем не менее в дневниковой записи 4 марта 1855 г. он набрасывает наспех основное содержание проекта, осуществлением которого он займется много позже, в последние годы жизни:
"Вчера разговор о божестве и вере навел на меня великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта - основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры в таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение..."
Однако только тогда, когда Толстому было уже за пятьдесят и когда он уже создал свои художественные шедевры, он решился посвятить себя той идее, носителем которой он себя чувствовал. Моральный и религиозный кризис, происходивший в нем, был настолько сокрушительным, что привел его на грань самоубийства: он дошел до того, что прятал от себя веревку и не выходил на прогулку с ружьем, как он это делал раньше... И вполне естественно, что тогда он обратился к религии. Но не к той, светской, что испове-дывали люди его круга, а к народной, к религии того русского народа, свою близость к которому он все более ощущал. В течение трех лет он заставлял себя тщательно исполнять все обряды, присутствовал на всех церковных службах, часами простаивал в церкви в толпе мужиков. Он вел долгие душеспасительные разговоры с монахами, в особенности со старцами Оптиной пустыни.
И, однако, в нем росло сомнение - не то чтобы ослабевала его вера, напротив, но все те предписания, которые были прибавлены официальной церковью к первоначальному учению Евангелия, казались ему более и более бесполезными. И тогда он создал свое собственное моральное учение на основе учения христианского, но освобожденное от элементов официальной церковности.
"Мало-помалу я создал для себя новую веру, достаточно прочную, но еще недостаточно ясную. Разум находит в ней удовлетворительные ответы, но страдающее сердце не находит в ней поддержки и утешения".
После тщательного изучения Евангелия в подлиннике Толстой принялся за перевод текста, употреблявшегося в церковных службах по-славянски, на русский язык. Так появился труд Толстого "Соединение и перевод четырех Евангелий", публикация которого в России была запрещена духовной цензурой. Сущность своего учения Толстой изложил в сочинении "В чем моя вера?", в котором он объявил о своем разрыве с официальной церковью и осудил все формы религиозной нетерпимости.
С годами Толстой все более и более убеждался в том, что религии различны, но религиозная истина едина. Среди всех его произведений, которые в конце жизни он считал наиболее значительными, он выделил два небольших тома "Круга чтения". Это составленный им сборник текстов для чтения "на каждый день" - заботливо собранные им страницы из произведений различных авторов, содержащие поучения в духе христианской морали, а также моральные предписания пророков и мыслителей Индии, Китая и других стран Востока и Запада.
Толстой был убежден, что суть учения о нравственной жизни заключается в любви к ближним, в равнодушии к материальным благам, самоотречении и непротивлении злу насилием, и если уважать эти правила и следовать им, это будет способствовать нравственному совершенствованию каждого. Он прекрасно отдавал себе отчет, что это идеал и, как таковой, он трудно достижим, но он был убежден, что необходимо делать все, чтобы по мере сил к нему приближаться. Однажды в беседе с друзьями Толстой сказал:
"Возможно, я преувеличиваю, но ведь когда пересекаешь бурную реку, надо грести дальше и выше того места, куда хочешь причалить".
Андре Жид написал в своем дневнике 17 июня 1932 г., что обращение Толстого к философии в последние десятилетия его жизни было вызвано ослаблением его творческих способностей. Однако это совершенно очевидно противоречит истине. Достаточно вспомнить, что в это же самое время Толстой написал свои главные художественные произведения - от "Крейцеровой сонаты" до "Воскресения", включая незабываемую "Смерть Ивана Ильича", драму "Власть тьмы", повесть "Хозяин и работник", рассказ "Три старца" - и многие другие произведения, принадлежащие к шедеврам русской прозы.
Для Толстого было более важно растолковать людям свое понимание смысла жизни, нежели их развлекать и приумножать при этом свою литературную славу. "То новое направление, которое приняла мысль Толстого, не засушило его художественный гений, но, напротив, его возродило, - так глубоко и метко сказал об этом Ромен Роллан, - он создавал образцы того нового искусства, которое он проповедовал в двух формах: один вид его искусства стремился объединить людей любовью, другой объявлял войну всем, кто против любви".
Несостоятельны все попытки расчленить Толстого, рассматривать его только как писателя или только как моралиста, только как философа. Феномен Толстого в слиянности всех начал, в неделимости.
В конце жизни этот пророк и отшельник стал нравственным авторитетом для людей всего мира. Ежедневно он получал десятки писем не только из России, но из разных стран и с разных континентов. Ему писали и его спрашивали обо всем. В обширной переписке Толстого можно найти все те темы, которые занимают нас сегодня: расизм, колониализм, смертная казнь, борьба с алкоголизмом и наркоманией, вегетарианство, половые отношения... Читая эту переписку, ясно представляешь себе, что Толстой мог чувствовать себя ответственным за судьбы всего человечества.
В письме к Ганди, написанном за два месяца до смерти, Толстой высказал свое нравственное завещание: "Любовь - иначе говоря стремление людей к единению и солидарности есть единственный высший закон жизни".
XX век стал свидетелем того, как идеи, которые проповедовал Толстой, начинают претворяться в жизнь; Ганди в борьбе за свободу Индии успешно применял тактику ненасильственного сопротивления (непротивления злу силой). Все большее число общественных деятелей высказывается за отмену смертной казни. Несколько лет тому назад в Англии в палате общин один из депутатов, выступавших с поддержкой проекта закона об отмене смертной казни, вместо пространных доводов зачитал отрывок из "Воскресения". Шовинизм и милитаризм теряют своих приверженцев; война уже не представляется нормальным состоянием человечества, делом, достойным прославления, а борьба за мир, как никогда, становится все более жизненно важным делом. Если человек всего лишь продукт различных факторов, биологических, психологических, социальных - а в этом отношении современная психогенетическая теория представляет дополнительные аргументы, - пожалуй, можно было бы поверить в возможность предсказывать судьбу.
Наследственность, среда - это элементы случайного. Но случайно ли, что Толстой всю свою долгую жизнь был одержим стремлением к освобождению от тех пут, которые привязывали его к породившей его социальной среде, не только для того, чтобы стать одним из величайших писателей мира, но чтобы стать защитником угнетенных и униженных.
Гений его отмечен печатью добра и света. Произведения Толстого, художественные и философские, несут в себе светлое начало и воздействие, которое оно оказывает на умы людей, способствует их единению. Вот почему этот "русский барин" по рождению стал первым гражданином мира.
В 1960 году в Венеции состоялась международная конференция славистов, посвященная 50-летию со дня смерти Толстого. Подводя итог одного из заседаний, председательствующий Джордж Кеннан сказал: "Если бы он не родился, человечество не было бы тем, что оно есть". Не нашлось никого, кто пытался бы оспорить эту мысль.
Сергей Михайлович Толстой, внук Льва Николаевича Толстого, живет во Франции, в Париже. Он врач по профессии, но, следуя семейным традициям, много сил отдает литературной работе. В 1980 году парижским издательством "Эрманн"была выпущена в свет его книга "Толстой и Толстые" ("Tolstoi et les Tolstoi". Paris, Hermann, 1980), в которой представлена галерея великолепно выполненных литературных портретов предков и родных Льва Толстого. Книга была удостоена премии Французской Академии. Продолжая работу в избранном жанре очерков из истории рода Толстых, Сергей Михайлович опубликовал книгу "Дети Толстого" (Париж,"Перрэн", 1989 - "Les enfants de Tolstoi". Paris, Perrin, 1989). Целостность и неповторимость всему написанному придает образ рассказчика - самого Сергея Михайловича; его душевным светом освещается множество лиц, событий, фактов семейной истории, и читатель, воспринимая живой, непринужденный и сердечный рассказ внука писателя, чувствует непосредственное соприкосновение с концом той цепи, главное звено которой - Лев Толстой.
Сергей Михайлович Толстой родился в имении своих родителей Тарасково Каширского уезда Тульской губернии 14 сентября 1911 года. Его отец - младший сын Льва Николаевича Михаил Львович, мать - Александра Владимировна, из старинного рода Глебовых.
В детстве родители брали его с собой, отправляясь в Ясную Поляну; там уже не было великого Толстого, мальчика встречала бабушка Софья Андреевна, обожавшая своих внуков. Духовная атмосфера Ясной Поляны оставила неизгладимый след в душе ребенка. Куда бы впоследствии ни бросала судьба Сергея Михайловича, Ясная Поляна оставалась с ним всюду и навсегда. В водовороте гражданской войны Михаил Львович и его семья оказались на юге России, в 1920 году волна эмиграции вынесла их во Францию. В Париже Сергей Михайлович получил медицинское образование; затем отправился с отцом в Марокко, где начал врачебную практику в клинике в Рабате. Там похоронил он отца. Вернувшись в Париж, Сергей Михайлович встретился со своей теткой Татьяной Львовной Сухотиной-Толстой, она отнеслась к племяннику с покровительством и большой симпатией. От Татьяны Львовны, а позднее от Александры Львовны, с которой он встречался на ее ферме под Нью-Йорком, от многочисленных кузенов и кузин Сергей Михайлович слышал множество разных семейных преданий, рассказы о своем деде Льве Николаевиче. Все слышанное он бережно хранил в своей памяти. Вслед за представителями старшего поколения - Сергеем, Татьяной, Ильей, Александрой, авторами воспоминаний о Толстом и Ясной Поляне - Сергей Михайлович в свой черед продолжил "семейную сагу". (О "семейной саге" он упоминает в своей книге "Толстой и Толстые".)
Сергей Михайлович Толстой впервые посетил Советкий Союз в 1960 году, когда отмечалось 50-летие со дня смерти Л. Н. Толстого. С тех пор он приезжает часто, поддерживает дружеские отношения с музеями Л. Н. Толстого в Москве и Ясной Поляне. Сергей Михайлович Толстой возглавляет организованное им во Франции "Общество друзей Толстого".
Публикуемая статья С. М. Толстого включена им в книгу "Толстой и Толстые" как послесловие. Сокращенный перевод на русский см.: "Толстой и Толстые". Иллюстрированное издание. М. "Советская Россия". 1990.

Л.Н.Толстой. 1910 г. (?) Фотография В.Г. Черткова

Л.Н. Толстой. Ясная Поляна. 1909 г. Фотография В.Г. Черткова
|
ПОИСК:
|
© LITENA.RU, 2001-2021
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'