
Т. П. Григорьева. Цветок в сунской вазе
Как сказать, в чем сердца суть? Шум сосны на сумиэ*.
* (Сумиэ — картина тушью.)
Бывают тексты, сколь к ним ни обращаешься, все находишь нечто новое. Это как чистейший родник, пьешь, вода не убывает. Поэтому и возвращаешься к ним, к изреченному когда-то — к текстам древних, записанным со слов мудрецов, во имя спасения людей от самих себя. Есть в них особая, неиссякающая сила. Откуда она черпается, неведомо, но время не властно над нею. Это живые слова, животворящие, и приобщенность к живому дает им независимость от перемен.
Бывает, что и родившееся недавно слово задевает за живое и волей-неволей возвращаешься к нему, как я уже не раз возвращалась к речи Кавабата Ясунари, произнесенной на церемонии вручения ему Нобелевской премии,— «Красотой Японии рожденный». В ней много скрытого смысла, она притягивает как нерешенная задача. Это завещание писателя, то, что он хотел сказать на прощание.
Наверное, сложность в законе ее построения или в образе мышления Кавабата, в той внутренней логике текста, за которой стоит определенный тип мироощущения. Мысль исходит из единого центра, и ощутить этот центр, или истинное Я писателя, можно, лишь затаив дыхание, приостановив движение кругов. Для автора не важна логическая (в нашем понимании) или хронологическая последовательность. Он непрестанно переходит от одной темы к другой, от XIII в. к XX, от XX к XV, опять возвращается в глубь веков, к тому, с чего начал, словно замыкая круг для того, чтобы разомкнуть его в другом месте.
С одной стороны, эта манера близка традиционному жанру — «дзуйхицу» — «следовать кисти»*: то же свободное, ничем не скованное изложение всего, что приходит на ум. С другой — ничего случайного, всему в конце концов находится объяснение. Здесь внутренняя соподчиненность всего во имя единой цели пробуждения сознания, ощущения того, что все едино, притом что все неповторимо. Потому и едино, что неповторимо, неслиянно: лишь осуществляя себя, осуществляешь всеобщее. Так решается извечная проблема единства и множества, которая казалась неразрешимой в парадигме «или то, или это», но решается при подходе «и то и это» или «это есть ты» (привычный образ упанишад, а в дзэнском видении — «одно во всем и все в одном»). При таком подходе ничто не умаляется, отдельное сохраняет свою целостность, индивидуальность, на которую нельзя посягать, дабы не нарушить закон Целого, ибо без целого нет жизни, нет и не может быть ничего живого. И это относится не только к человеку, раздвоенная психика которого делает его полуживым, а то и «мертвой душой», «нечеловеком», но и к произведению искусства, к тексту в самом широком смысле, где сама композиция может обладать свойствами свободы и гуманности (когда отдельному не тесно) и может не обладать ими (это стали ощущать современные архитекторы — свою вину перед прошедшим, понастроив однотипные здания, не имеющие своего лица). Иначе говоря, речь идет о той самой «пустоте» (шуньяте), без которой не реализуется отдельное, ибо для своей реализации, для своего завершения оно нуждается в просторе.
* (О характере жанра можно судить по прекрасному переводу В. Марковой «Записок у изголовья» Сэй-Сёнагон: «Буду писать обо всем, что в голову придет, даже о странном и неприятном».)
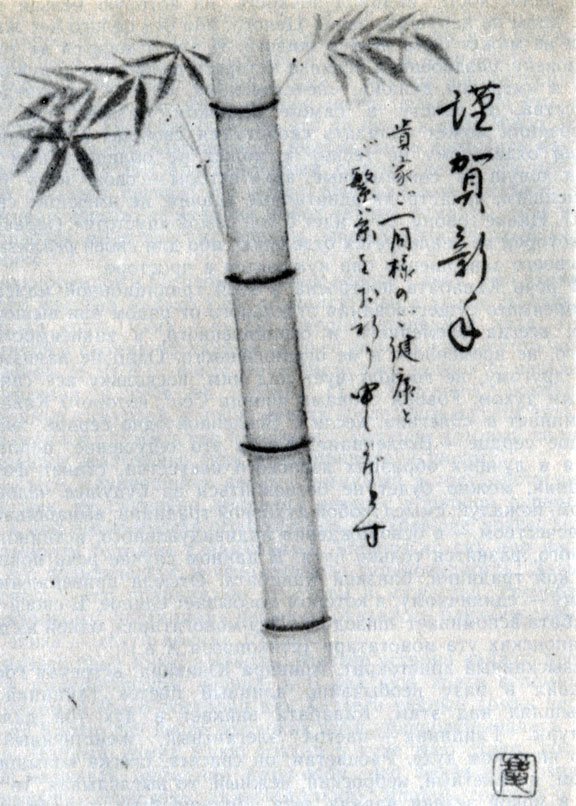
«Разве не в шорохе бамбука путь к просветлению, разве не в цветении сакуры озарение души». Догэн
И речь Кавабата построена в этой традиционной манере — независимого существования отдельного от рядом или вышестоящего, всегда временного и ограниченного, и зависимости от целого, не временного и не ограниченного. Одно не навязывает себя другому, не господствует над ним, поскольку все связано единым духом. Говоря словами японца Сёо*, которого Кавабата вспоминает в «Элегии», «если у Вселенной одно сердце, значит, каждое сердце — Вселенная». Когда это ощущение, воплотившееся в лучших образцах дзэнского искусства, станет фактом сознания, можно будет не беспокоиться за будущее человека. В этом, пожалуй, смысл любой духовной традиции, вынашиваемой человечеством,— в освобождении индивидуального, истинного от ложного, разнятся только пути. В данном случае речь пойдет о дзэнской традиции, близкой Кавабата. Отсюда приверженность одному — единичному, в котором пребывает единое. В своей речи Кавабата вспоминает эпизод из «Исэ-моногатари», одной из древних японских ута-моногатари (стихопроза X в.).
* (Представитель школы сингаку (учение о сердце) в Японии XVII—XVIII вв.)
Изысканный аристократ, Аривара Юкихира, встречая гостей, поставил в вазу необычайно длинный цветок глицинии. И, размышляя над этим, Кавабата вникает в дух той далекой культуры. Глициния — цветок элегантный, женственный — в чисто японском духе. Расцветая, он свисает, слегка колышимый ветром, незаметный, неброский, нежный, то выглядывая, то прячась в яркой зелени начала лета. Должно быть, эта глициния была очень хороша. Она таит в себе «очарование вещи» (моно-но аварэ), ту неповторимую красоту индивидуального, которую японцы эпохи Хэйан (IX—XII вв.) ценили превыше всего. Но менялись времена, менялось ощущение прекрасного. Мастер чайной церемонии (а точнее, «пути чая» — тядо) и икэбана Сэн-но Рикю (1522—1591) уже советовал не брать для икэбана раскрывшиеся бутоны.
Мысль писателя, стремительно миновав четыре века, вернулась в нынешнюю Японию. И теперь во время чайной церемонии в нише чайной комнаты стоит один нераскрывшийся цветок, соответствующий сезону. В зимнее время — гаультерия, или камелия вабискэ с мелкими цветочками. В мае для чайной церемонии особенно хорош бутон белого пиона в вазе из селадона, и на нем должна быть роса. Можно побрызгать и цветок и вазу водой.
Писатель начинает говорить уже о другом, на ум приходит случай с Тоётоми Хидэёси*. «Один цветок лучше, чем сто, дает почувствовать душу цветка». Не это ли имел в виду Рикю, когда в ожидании своего покровителя, надумавшего навестить мастера и полюбоваться его прославленным садом, срезал все цветы и землю посыпал песком. Но когда разгневанный Хидэёси, едва сдерживая ярость, переступил порог чайной комнаты, то в нише, в бронзовой вазе сунских времен, увидел единственный цветок повилики.
* (Тоётоми Хидэёси (1536—1598) — правитель Японии, получивший титул «канцлера» (кампаку).)
Рикю родился в богатом торговом городе Сакаи, был учеником чайного мастера Такэно Сёо, обучался дзэн в храме Дайтокудзи и избрал «путь чая» — путем совершенствования духа. Своей практикой и своими взглядами он внес немало в искусство чайной церемонии. В 1578 г., когда Рикю было уже далеко за пятьдесят, его призвал к себе на службу Ода Нобунага, покоритель непокорных самураев, а после смерти последнего, спустя пять лет, Рикю остался служить его преемнику, Хидэёси, который положил ему щедрое жалованье (как было принято — рисом).
Хидэёси, славившийся своими военными и государственными талантами, не случайно проявлял интерес к чайной церемонии, видя в ней возможность облагородить огрубевшие нравы воинов и примирить горожан с самураями. Японцы до сих пор видят в этом его политическую и человеческую дальновидность. Дзэнское искусство с его принципами простоты и мужества, способность к спонтанному, внезапному решению оказалось близким самурайской этике — «пути воина» (бусидо).
Хидэёси брал Рикю в походы. Мастер устроил чайную церемонию в императорском дворце, и о ней еще долго вспоминали. Благодарный Рикю построил для Хидэёси чайный домик неподалеку от Киото, где после жестоких битв уравновешивалась душа воина. Чайный домик Рикю создал в духе того стиля, который стали называть ваби или ваби-саби, что буквально означает «скромный», «простой», даже «жалкий». Японцы говорят о ваби языком образа: ваби — это пустынный берег и одинокая хижина рыбака или мелкие бутоны ранних цветов, пробившиеся сквозь толщу снега в заброшенной горной деревушке. Но эта безыскусная, неброская, даже грубоватая красота таит в себе подспудную силу — силу земли. Это красота внутренняя, не внешняя, скорее духовная, чем чувственная, красота подвижничества. Как говорил учитель Рикю — Сёо, ваби значит быть честным, сдержанным и скромным. И Рикю черпал силу в этой простоте, в неброской красоте ваби, жертвовал малым во имя большого. Отказавшись от суетных стремлений, обрел душевный покой, право быть самим собой. Это стало естественным для Рикю — не иметь лишнего ни в быту, ни в общении, ни в искусстве. Он мог использовать простую корзину, которой рыбаки ловили рыбу, в качестве подставки для цветов, составляя свои «философские» икэбана. Он отвергал броское, вычурное и вводил в чайный ритуал обыденные, повседневные вещи. Рикю говорил: «Чья душа искривлена, не заметит, что свиток в нише висит криво». Он отбил верхушку у каменного фонаря, стоявшего у входа в чайный домик, чтобы придать ему вид незаконченный, незавершенный (и теперь этот фонарь — реликвия хранится в храме Дайтокудзи).
Простота и безыскусность ваби должна была приводить душу человека в особое состояние — той же простоты и безыскусности, бескорыстия и искренности. В этом и заключается «путь чая» (тядо) — в возможности прямого общения, «от сердца к сердцу». Или, как сказано в правилах, изложенных Рикю, настрой свое сердце в лад с другими сердцами, никто в этом мире не должен жить, считаясь лишь с самим собой.
В речи Кавабата говорил о четырех принципах чайной церемонии — «гармонии, почтительности, чистоте и спокойствии» (ва, кэй, сэй, дзяку), которые и были изложены Рикю в руководстве по чайной церемонии.
Ва — это гармония человека с миром и с самим собой; иначе говоря, тогда возможна гармония с миром, когда ты в гармонии с самим собой.
Кэй — это почтительность, поскольку в чайном доме нет места непочтительности, нет знатных и незнатных, здесь все равны, ибо все едино в своей изначальной природе. Говоря словами Конфуция, «все равны по природе, далеки по воспитанию».
Сэй — чистота, определяет чистоту в прямом и переносном смысле: это и чистота самого дома, где собираются гости, и чистота помыслов, чистосердечие.
Дзяку — спокойствие, а точнее, полный покой, и тоже в прямом и переносном смысле (хотя нет одного без другого) — покой как тишина и покой как уравновешенность, безмятежность, отрешенность от внешнего мира. Недаром иероглиф «дзяку» понимают иногда как нирвану.
Если познал дух ваби, зачем все остальное? Ответ скрыт в словах мастера Сокэя: «Главная цель ваби — дать почувствовать чистоту, незагрязненность обители Будды. Вот почему хозяин и гости, как только входят в скромную чайную комнату, очищают себя от земной пыли и ведут разговор сердцами. Поэтому и не нужно особо заботиться о правилах и манерах. Просто развести огонь, вскипятить воду и пить чай. Это и есть чайная церемония». И Рикю говорил: «Чайный ритуал есть не что иное, как вскипятить воду, приготовить чай и пить его». Все дело — в успокоении души, в преодолении себя, своего эго и всего, что с ним связано, в достижении состояния «не-я» (яп. муга) — несосредоточенности на своих личных заботах. Тогда они и исчезают, когда сознание на них не зациклено. В речи Кавабата акцентирует на этом внимание: дзэн не знает ни идолов, ни икон, ни сутр. Подвижники медитируют с полузакрытыми глазами и достигают полной отрешенности. Тогда исчезает «я» и наступает «Ничто», но это совсем не то «ничто», что понимают под ним на Западе. Это Вселенная души, Пустота, где все вещи пребывают в своем подлинном виде. В этом состоянии не ощущаются преграды, ограничения, идет свободное общение всего со всем. Ощущение внутренней свободы достигается лишь усилиями собственного духа. Здесь действует скорее интуиция, чем логика, она и дает возможность внезапного озарения — сатори, мгновенного всевидения, постижения истинной сути вещей. Нечто похожее или близкое мы находим, например, у неоплатоников, которые также утверждали, что, лишь забыв о себе, можно встретиться с Единым, если довериться «чистой» интуиции. Унаследовав дзэнскую традицию, японцы провозглашают принцип муга и мусин («не-я», «не-ум», или «неумствование», санскр. анатман, ачитта). По Д. Судзуки, муга — это когда исчезает ощущение того, что «именно я это делаю»,— главная помеха Творчества. В «Эннеадах» Плотина говорится: «Ум должен ...как бы отпустить себя, не быть умом» (Энн., 3, 8, 9). И в дзэн: отпусти свой ум на волю, предоставь его самому себе, тогда и увидишь мир в его «таковости», как есть. Все истинное, или причастное Истине, Едино.
В Японии традиция забвения себя сиюминутного ради познания себя истинного, своей изначальной природы имеет глубокие корни и уходит к истокам синто-буддийско-даосских учений и верований. «Доведи себя до высшей пустоты, сохраняй полный покой, и все будет само собой совершаться»,— говорил Лаоцзы («Даодэцзин», 16). Ему вторил Чжуанцзы: «Предашься недеянию, и вещи будут сами собой развиваться... слейся в великом единении с самосущим эфиром. Освободи сердце и разум, стань абсолютно спокоен, и каждый из тьмы существ станет самим собой». То же в буддизме — идея анатмана: узнаешь себя, когда забудешь себя. Говоря словами чаньского поэта Сэн Цаня (яп. Сосан, ум. в 606 г.), «совершенный путь подобен бездне, где ни прибавить, ни убавить. Лишь оттого, что выбираем, теряем главное. Не привязывайтесь ни к чему внешнему и не живите во внутренней пустоте. Когда ум покоится в единстве, двойственность сама собой исчезает».
Рикю следовал своему пути, который все дальше уводил его от Хидэёси. И бывала ли прочной связь диктатора и мастера? Рано или поздно их пути расходятся. С этим трудно примириться властителю. Рикю следовал ваби, Хидэёси пренебрег простотой, соблазнился роскошью. Чайная комната по его вкусу была отделана золотом, золотым блеском сияла и чайная утварь. Естественно, это огорчало Рикю, постигшего смысл простоты. И уже поэтому мастер не мог не раздражать Хидэёси. Поверив наговорам или сделав вид, что поверил, Хидэёси решил избавиться от старого мастера, невзирая на его прежние заслуги, и повелел совершить харакири.
Семидесятилетний Рикю остался верен себе и сделал харакири по всем правилам ритуала. На последнюю в его жизни церемонию собралось немало друзей и почитателей. Гости сидели в молчании. Свиток, висевший в нише, написанный древним монахом, напоминал о быстротечности жизни. В котелке тихо булькала вода, и едва доносились печальные голоса цикад, тоскующих об ушедшем лете. Вошел Рикю. Они молча выпили чаю. Рикю преподнес каждому прощальный подарок. Сдерживая слезы, гости удалились. Остался лишь один, самый близкий. Рикю снял с себя облачение чайного мастера и положил аккуратно рядом, на татами. Вынув меч, произнес прощальную танку:
Семь по десять Человеческой жизни! Рикиикитацу!* Этим священным мечом Убиваю будд и патриархов!
* («Рикиикитацу» — слова не имеют смысла, это дзэнский прием: внезапным выкриком «хэ», «кацу» активизировать психику. Семидесятилетнему Рикю, конечно, было непросто собрать мгновенно энергию для резкого движения руки.)
И отошел в мир иной.
Когда представляешь себе мастера, совершающего харакири, становятся яснее слова дзэнского поэта Иккю (1394—1481), глубоко волновавшие Кавабата. Он хранил у себя свиток (какэмоно), написанный самим Иккю: «Легко войти в мир будды, нелегко войти в мир дьявола». Эти слова не дают мне покоя. Я их тоже порой надписываю. Их можно понимать по-разному. Возможно, их смысл безграничен. Но когда вслед за словами «Легко войти в мир будды» читаешь «нелегко войти в мир дьявола», Иккю входит в душу своей дзэнской сущностью.
Здесь есть над чем задуматься. Для нас, быть может, это звучит странно. А зачем, собственно, входить в мир дьявола? Слова становятся понятнее, когда узнаешь, кому они принадлежат. Иккю — незаконнорожденный сын императора, монах, славившийся своими эксцентричными поступками (само по себе парадоксально), общительный, когда хотел, беспокойный. Прошел через «Великое сомнение» и остался жив. Хотел покончить с собой, броситься в озеро Бива, но его спасли. Свои стихи собрал в сборник, который назвал «Безумное облако», так же величал и себя. «Безумное облако» — свободно поневоле, не имеет опоры, кто знает, куда гонимо оно ветрами. Кавабата считает, что Иккю нашел собственный путь к свободе. Он не следовал монастырским правилам, заповедям дзэн: ел рыбу, пил вино, навещал женщин. Кавабата хочет понять настрой его души: быть может, в то смутное время междоусобных войн и падения нравов Иккю хотел возродить человеческие отношения, вернуть доверие к естественности? Иккю говорил о том, что все не отвечающее воле и разуму обычных людей не отвечает человеческим законам и закону Будды.
Кавабата не раз возвращается к этой мысли, она действительно запала ему в душу: «В конечном счете и для людей искусства, ищущих истину, добро и красоту, искушение, скрытое в словах „нелегко войти в мир дьявола", в страхе ли, в молитве, в скрытой или явной форме, но присутствует неизбежно, как судьба. Без „мира дьявола" нет „мира будды". Войти в „мир дьявола" труднее. Слабым духом это не под силу». В памяти писателя всплывают слова чаньского мастера IX в. Линьцзи (яп. Риндзай): «Встретишь будду, убей будду. Встретишь патриарха, убей патриарха». Эти слова стали девизом искавших свой путь в дзэн. Разве не та же мысль озарила сознание Рикю и придала ему силы в последний момент? Не должно приверженцу дзэн привязываться к чему-то, узы лишают его свободы, становясь препятствием на пути к конечной цели — пробуждению сознания. «Встретишь будду, убей будду» — нужно решиться пожертвовать всем, даже самым дорогим, священным. И Рикю принес в жертву все цветы любимого сада, а потом — жизнь.
Но все есть Одно, все ответы скрыты в душе человека. Не нужно никуда идти и никого убивать. Возможна лишь одна победа — над самим собой, изгнание дьявола и очищение сознания от зла неведения (авидьи), источника всех бед и пороков. Победить себя может лишь сам человек — усилиями собственного духа, хотя труднее всего увидеть дьявола в себе. Легче иметь дело с видимым врагом, чем с невидимым.
(И опять возникает ассоциация — на сей раз с «Исповедью» Августина: «Я стараюсь понять слышанное мною, а именно, что воля, свободная в своем решении, является причиной того, что мы творим зло... Откуда сам дьявол? Если же и сам он по извращенной воле своей из доброго ангела превратился в дьявола, то откуда в нем эта злая воля, сделавшая его дьяволом, когда он, ангел совершенный, создан был благим создателем?.. Где же зло и откуда и как вползло оно сюда? В чем его корень и его семя? Или его вообще нет? Почему же мы боимся и остерегаемся того, чего нет? А если боимся впустую, то, конечно, сам страх есть зло, ибо он напрасно гонит нас и терзает наше сердце,— зло тем большее, что бояться нечего, а мы все-таки боимся».)
Увидеть дьявола в себе, не устрашиться единоборства и одержать победу, не отступить — это действительно не для каждого: слабым духом это не под силу. Преодолеть искус «Великого сомнения» и не пасть духом, выкорчевать злое без остатка, или умереть — иного выбора нет. Это доступно лишь тому, кто идет путем дзирики — полагается на собственную силу. Только сам можешь уничтожить — не себя, но ложное в себе, свои пристрастия, комплексы, свое эго, псевдоличность, маску, которая часто срастается с истинным лицом.
Этот путь понимают порой превратно: чтобы стать буддой, просветленным, не надо убивать в себе человека, надо лишь сдернуть маску и обнажить истину. Всякое насилие противно природе будды. Нирвана приходит сама, и всякое насилие лишь прерывает путь к спасению: невозможно заставить цветок зацвести, раскрыв лепестки бутона. Цель не оправдывает средства, поскольку средства (путь) и есть сама цель. Неправедным путем не приходят к праведности. «Все вещи порочны, когда ум порочен, и все вещи чисты, когда ум чист»,— сказано в «Вималакиртинирдеша-сутре» (которую также упоминает Кавабата в своей речи). Значит, очищая сознание, очищаешь все вокруг. В этом цель любого духовного пути — изгнание порока, неведения, его источника, только пути выбирают разные. В дзэн существует немало методов, приемов воздействия на психику: в полной искренности очистить сознание. Нужно было очень верить в изначально светлую природу сущего, чтобы следовать этому.
Но в жизни все сложнее, чем в теории. Знаток японского искусства, Макото Уэда, размышляя над участью дзэнских мастеров той эпохи, приходит к выводу, что чайная церемония лежит на тонкой грани человеческого и надчеловеческого мира. По сути, она является попыткой уподобить жизнь искусству, попыткой безнадежной. Уйдя в сферу искусства, человек может преодолеть свое социальное «я», полагает ученый, но не природное. Стиль ваби, хотя и подразумевает красоту отрешенную, бесцветную, все же преисполнен жизни, созидательной силы. И можно ли найти полный покой, оставаясь по сю сторону жизни, уподобив действительность искусству? Это никому не удавалось: Рикю умер трагической смертью, повинуясь приказу бывшего почитателя. На долю мастера Содзи выпали пытки и мучительная смерть. Мастера чайной церемонии не могли пренебрегать жизнью во имя искусства — прежде всего потому, что их искусство и было самой жизнью. В доказательство Макото Уэда приводит стихи самого Рикю:
Я думал, знаю — Превратна жизнь В этом мире печали. И все же затерялся В тумане сомнений.
После развития этой темы мысли Кавабата неожиданно меняют направление. Ему вспоминаются слова сторонника «мягкого» пути в дзэн — Догэна (1200—1253): «Разве не в шуме бамбука путь к просветлению? Разве не в цветении сакуры озарение души?» Прославленный мастер икэбана Икэнобо Сэньо (1532—1554) говорил в «Тайных речениях»: «Горсть воды или небольшое дерево могут вызвать в памяти громады гор и полноводье рек. В одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений». Кавабата переходит к описанию японских садов, дарующих равновесие духа. Те самые знаменитые сады камней, которые переносят в иное пространство, когда на них смотришь. Можно оказаться среди гор и увидеть стремительные реки или бьющиеся о скалы волны океана. Завершает свою речь Кавабата словами: «Сезонные стихи Догэна „Изначальный образ", воспевающие красоту четырех времен года, и есть дзэн». Он имел в виду стихи Догэна:
Цветы — весной, Кукушка — летом. Осенью — луна. Чистый и холодный снег — Зимой.
«И если вы подумаете,— заключает писатель,— что в стихах Догэна о четырех временах года — весне, лете, осени, зиме — всего лишь привычные, избитые, надоевшие слова, безыскусно поставлены рядом, думайте! Если вы скажете, что это вовсе не стихи, говорите! Но как они похожи на предсмертную танку старого Рёкана (1758—1831):
Что останется после меня? Цветы — весной, Кукушка — в горах, Осенью — листья клена.
В этом стихотворении, как и у Догэна, простейшие образы, обыкновенные слова незамысловато, даже подчеркнуто просто поставлены рядом, но, воздвигаясь друг над другом, они передают сокровенную суть Японии».
Пожалуй, и в них заключено то самое ваби, неброское, ненавязчивое, которое, не отвлекая ум яркостью красок, дает ощутить чистый ритм Вселенной и приобщиться к нему. Образы рождаются изнутри, и, чем меньше в них внешнего, тем более внутреннего. Недаром же медитируют, глядя в одну точку или сидя перед голой стеной, как провел не один год великий Бодхидхарма (VI в.), указавший китайцам путь дхьяны (кит. чань, яп. дзэн).
Спрошу — ответишь. Не спрошу — молчишь. Что в душе твоей сокрыто, Благородный Бодхидхарма?
Пять цветов притупляют зрение, пять звуков притупляют слух, пять вкусов нарушают восприимчивость, говорит Лаоцзы. На охоте от быстрой езды начинает болеть сердце. Приобретаемое с трудом богатство приносит лишь вред человеку. Поэтому мудрец ограничивается малым и не соблазняется внешним («Даодэцзин», 12). Еще одно свойство любой духовной традиции — отвращаться от внешнего и сосредоточиваться на внутреннем: чем больше внимания одному, тем меньше другому — по закону Целого.
Почему так привлекают древние храмы Руси, скажем владимирские соборы XII в.? Та самая строгая Красота, где ничего лишнего. Чем менее духа, тем более убранства — все по тому же закону Целого. Мне кажется понятной тревога Е. Н. Трубецкого, обеспокоенного упадком духовной культуры в России времен первой мировой войны: «Человек не может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя» («Умозрение в красках», 1916, с. 53). Это было тревожное время. В предчувствии мировой катастрофы поднимали свой голос в защиту культуры и японские интеллигенты, например Окакура Какудзо, автор «Книги о чае» (1906). В первой же главе — «Чаша человечества» — он называет японский культ чая «моральной геометрией», позволявшей японцам поддерживать правильные отношения с миром, и сетует, что «европейский обыватель видит в чайной церемонии лишь одну из тысячи и одной причуд Востока, проявление его чудаковатости и ребячества. Он смотрел на Японию как на варварскую страну, в то время как она предавалась сугубо мирным искусствам. Но он стал называть ее цивилизованной после того, как она устроила кровавую бойню на полях Маньчжурии. В последнее время много говорят о самурайском кодексе (бусидо), называя его Искусством Смерти, приучившем наших солдат умирать без страха, но никому и в голову не приходит обратить внимание на „путь чая", который представляет наше Искусство Жизни. Уж пусть мы останемся варварами, если признание нашей цивилизованности зависит от безумного прославления войны... Давайте же меньше упражняться в эпиграммах и станем терпимее относиться друг к другу во имя взаимного же интереса. Мы долго развивались разными путями, но нет причин не дополнять нам друг друга». Коли так получилось, что, говоря о цветке в сунской вазе, я пришла к искусству чая — Искусству Жизни, то и закончу словами самого Окакура: «Не странно ли, что человечество так редко встречается за чашкой чаю?!»
|
ПОИСК:
|
© LITENA.RU, 2001-2021
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'