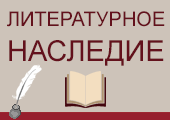
Поэт философствует. Поэт поучает
Гедоника классической персидской поэзии, как было сказано выше, полисемантична по содержанию. Пейзажная и вакхическая поэзия, стихи, воспевающие красоту, - все построено на приеме метафорического одухотворения окружающих объектов: явным или скрытым планом поэтического высказывания почти всегда является человек. Средневековая гедоническая лирика - более того - развивалась в тесной, часто нерасторжимой связи с еще одним чрезвычайно существенным направлением классической поэзии - искусством философской и дидактической афористики.
Тяготение к афористическим формам мышления, характерное для средневековья вообще, в самой высокой степени проявилось в речевой культуре Ирана. Дать словесный образ того или иного явления и вывести для него афористическую формулу - это искусство почиталось одним из краеугольных камней классической поэзии. В прямой связи с этим следует рассматривать теоретическую установку на смысловую и художественную замкнутость двустишия и его способность вести самостоятельную литературную жизнь (среди малых форм существовала, как известно, и такая форма, как фард - одиночный бейт).
Афористичность поэтического высказывания, заключенного в бейте - двустишии, отличает не только персоязычную поэзию малых форм, но и крупные стихотворные жанры - эпические, романические и дидактические поэмы. Но в наибольшей степени искусство афористики проявилось в форме рубай. Четверостишие в рассматриваемую нами эпоху - это вполне сложившийся, широко распространенный жанр персоязычной поэзии, прошедший через творчество крупнейших мастеров стиха - Баба Тахира, Сана'и, Мас'уд-и Са'д-и Салмана, Анвари, Хакани и других и уже перешагнувший высочайшие пики своего развития в рубай Омара Хаййама.
Творчество исфаханских поэтов, завершающее предмонгольский период, воплотило многие конечные результаты развития основных литературных тенденций домонгольского времени, в частности и в жанре рубай. Так, исфаханские поэты дали высокие образцы утонченного искусства афористичности. На крылатых формулах, выражающих сущность любовного страдания, построена вся их любовная поэзия. Вот типические строки - самостоятельное стихотворение:
Ты - стрела: тебя тянешь к себе - ты летишь. Ты - луна: что ни день, ты иная. Ты - слеза: навернешься на миг на глаза - и бежишь. Ты как жизнь: с каждым вздохом все меньше надежды.
Или отдельные бейты: Тот, кто не страдает по тебе, увечен, И сердце, не убитое тобой, мертво.
Я превратил мои два глаза в четыре, чтоб тебя увидеть, А ты, завидевши меня, из двух очей глядишь одним.
Одновременно творчество исфаханских поэтов дает обильный материал для оценки философского и нравственного начала классической персидской поэзии предмонгольского времени. У обоих поэтов, особенно это характерно для Камала Исма'ила, выражено стремление отлить в меткие речевые формулы моральные, социально-этические, философские и чисто житейские каноны своего времени. Более двухсот четверостиший Камала Исма'ила - это житейская и философская афористика и лирическая дидактика. При всей обобщенности - согласно литературному вкусу времени - поэтического высказывания эти четверостишия приближают нас к постижению личности поэта, мира его души. Сугубо личное звучит в горьких сетованиях на духовное одиночество, на неверие в людей, в жалобах на обманутые жизнью ожидания:
Как страшно оно мне, круговращенье тупого колеса судьбы, Страх перед жизнью неизменен: добра боюсь и зла боюсь. В душе нет ни крупицы веры в людей. Вот почему Я тени собственной, что вечно гонится за мной, боюсь.
Жизнь миновала - ни одно желанье сердца не свершилось, И ни одно из путешествий гостинцем нас не одарило. Что знанья? - не пришлю от них спасенье. Что разум? - он не преумножил веры.
Эти мотивы варьируются во многих стихотворениях. Вместе с тем в этой житейской философии и дидактике нет целостного мироощущения, заметны пестрота настроений и смешение жизненных позиций, внешне противоречивых для сознания одного человека: рядом с сетованиями на превратности судьбы и несправедливое распределение мирских благ проповедуется пренебрежение жизненным благополучием, соседствуют обывательская мудрость самосохранения и эпикурейская беспечность жизни "одним днем". И тут же гордость честного непреуспеяния в несправедливом мире, благородство преодоленного страдания, отрицание смирения, а в бессилии против незаслуженных ударов судьбы совет просто посмеяться над ней. Другими словами, мы находим здесь весь набор всечеловеческих житейских истин, представленный, как правило, в пословичном фонде любого из народов. Облеченные в меткие речевые формулы - афоризмы, пословицы, поговорки, - они извечно питали дух человека в его неудовлетворенности жизнью и в стремлении познать и сформулировать для себя ее непостижимые закономерности.
Ясно, что житейскую философию исфаханских поэтов следует понимать расширительно: в их афоризмах художественно выражены мысли и настроения, популярные у широких слоев населения. Из четверостиший Джамал ад-Дина ибн Абдарраззака и Камала Исма'ила можно составить своеобразную антологию таких - ходовых, по-видимому, в их время - сентенций:
В тот день, когда мы в суете уйдем из жизни, Которую лишь по ошибке мы считаем жизнью, С какою мыслью мы уйдем из жизни? Не вышла жизнь - поймем в итоге жизни.
Нас одарило время только цепью бед, Хоть раз коснулись ли мы розы, шипом не уколовшись? В итоге даже жизнь оно возьмет от нас назад Так что оно нам в самом деле дало?
Афористичность поэтического высказывания отличает главным образом второй, заключительный бейт рубай. В ряде случаев он без труда вычленим из четверостишия, являя полную способность к самостоятельному существованию. Четверостишия изобилуют такого рода литературными пословицами:
Пока жив, не пугай себя мыслью о смерти, Отведи смерти миг, а весь век беспечально живи.
В чаше жизни мирской перемешаны сладость и горечь - Так одно с губ любимой испей, а другое - с губ чаши вина.
О, хотя б нам страданье отмерялось длиной нашей жизни Или жизнь отмерялась по тяжести ноши страданья!
Вставай и путем предначертанным свыше пройди свою жизнь, Как и те, что прошли его прежде тебя.
Не тянись головой к небесам, как огонь под порывами ветра, Лучше ты затаись, как вода под землей.
Многие из них, следуя стилистическим конструкциям народных пословиц, императивны: советы и поучения прямо обращены к читателю. Сами императивы вынесены в концы строк и в редиф - повтор, завершающий каждую строку, что сообщает рубай особую экспрессию:
Чудачествам судьбы конца нет и предела, В теченье времени нет никакого распорядка, Не взваливай на плечи эту ношу горя - Ведь вся земная жизнь того не стоит.
Эту императивность поэт нередко обращает на самого себя, с формулой "о сердце!" (эй дил или дила), как бы отождествляя себя с читателем. Тогда четверостишие звучит своеобразным самоуговором, заклинанием или принимаемым обетом:
О сердце, не ищи ты утешителя в миру людском, Само себя утешь в своей душевной боли. Все муки в одиночестве само перестрадай - Ведь утешитель твой сам страстно жаждет утешенья!
Клянусь, не буду помышлять о суете мирской, Ни радости ее, ни горе не допущу до сердца. Пусть мне короной голову украсят - не возгоржусь, Пусть вновь лишат последней шапки - не поморщусь.
Как и всякие афоризмы, эти авторские литературные пословицы так или иначе воплощают жизненные и нравственные идеалы эпохи, вскрывают существовавшие связи между человеком и его временем. Именно поэтому социальная роль этих литературных афоризмов представляется особенно значимой. Может быть, именно эта часть персидской поэзии - так сказать, "обобществленная лирика" - и была прежде всего пищей для духа и ума в средневековом обществе.
Иранское средневековье отмечено высокой и утонченной культурой слова, можно говорить о своего рода культивируемом искусстве высокоорганизованного речения. Известно, что заучивание наизусть большого количества стихов и уместное цитирование их в живой речи и в письмах почиталось непременным признаком должной образованности. Характерной чертой средневековой стилистики было обильное уснащение сочинений - не только художественных, но и исторических, политических, богословских, мемуарных, дидактических, даже государственных и дипломатических документов - стихотворными вставками, притчами, афоризмами для иллюстрации и аргументации того или иного положения. Для средневековой персидской стилистики характерно активное обращение к богатому арсеналу афористических формул, метких присловий, образных сентенций.
Чрезвычайно значимой была при этом роль средневекового поэта. И не только в обогащении речевой культуры народа и его литературного языка. Придавая художественно отточенную, крылатую форму мыслям и суждениям своих современников, формулируя некие правила жизни, поэт выступал в известной степени и их творцом, т. е. социально активной личностью, имеющей влияние на формирование общественного мнения и создание системы нравственных ценностей.
Дидактическое начало, традиционно идущее еще от доисламского времени, было очень развито в литературе предмонгольского Ирана с ее андарз (поучения) и панднамак (книги советов). Дидактика в предмонгольское время процветала в самых разных формах литературного творчества: от афоризмов - литературных пословиц и поговорок, назидательных стихотворных притч, стихов-проповедей и стихов-наставлений до специальных трактатов - сводов этических заповедей и практически полезных в воспитании юношества "зерцал". Развитие дидактической поэзии поощрялось широким читательским спросом, в том числе и меценатствующих дворов. Сама художественная природа многих (но не всех) афористических рубай, опирающаяся в своей образности на реалии праздничного антуража, говорит об их органической принадлежности к жанрам придворной лирики.
Доминирующая для средневекового Ирана гуманистическая идея справедливого правления воплощена в тысячах поэтических высказываний домонгольских авторов, начиная с Фирдоуси; они вошли в широкий народный обиход как пословицы и изречения (так, из Шах-наме: "Признак силы - справедливость шаха, признак слабосилья - лживость шаха", "Сидящий наверху, вмени себе в закон: не презирать людей - ты ими вознесен"- или у Сана'и: "Правитель только той земли велик, где справедливости сияет лик" - парафразы этих строк в обилии представлены в любом средневековом диване и куллийате).
К прославлению справедливости царя, на котором построен весь официальный панегирик, исфаханские поэты добавляют и многое другое. Восхваляя мецената как идеального правителя, поэт исподволь очерчивает некий круг требований к нему, иногда достаточно практических: забота о процветании столицы и подданных, помощь бедным и сострадание к ним, забота о "людях пера", т. е. об интеллигенции, умение "ценить слово" и др.
Поэт выступает в своих придворных стихотворениях и как поставщик некой полезной социальной информации, привлекая внимание правителя к тем или иным сторонам жизни страны, города и подданных. Так, в диване Камала Исма'ила мы находим панегирическое кит'а (в двадцать пять бейтов), построенное на реднфе гурусне - "голодный". Вот несколько бейтов из этого стихотворения:
О господин! В сей год засушливый, голодный на доброту и щедрость, Замешан милости твоей водой хлеб у голодных. На языке у благородных - ни слова без восхваленья щедрости твоей, Как нет ни слова без поминанья хлеба - на языке, голодных. О, этот год, когда чернеют и мужа благородного лицо, И лик луны и солнца от стонов и рыдания голодных! Дрожит сам солнца диск. Ты спросишь - отчего? То звезд зубцы впились в него, как зубы обезумевших голодных. О господин мой, коль не протянешь ты руки своей кормящей, Сметет вконец сей каменный поток нужды живые души у голодных. На скатерть милосердья своего поставь ты хлеб любви к народу, И он потянется, без края и конца, к твоим дверям чредою караван голодных. Боюсь сказать в стихах я ненароком совсем не то, что надо: Ведь потерявших разум не отличишь по виду от голодных. Тем господам, у коих ныне амбаров чрева сыты, Поостеречься было б в самый раз того, что есть на языке голодных, Ибо не так огонь опасен для хлопковой ваты, Как для господ богатых опасен может быть поэт в строках стихов своих голодных.
Панегирик ли это в привычном для нас смысле? Стихотворение написано, как можно понять, в один из голодных годов, все его образы имеют своей основой реальный план - голодающих жителей Исфахана. И цель этих стихов, где каждый бейт замыкается словом "голодный", повторенным на протяжении стихотворения двадцать пять раз, ясна: подвигнуть правителя на оказание помощи голодающему населению. Поэт как бы принимает на себя роль посредника между народом и правителем, используя свое право допуска ко двору, дабы поведать о народных нуждах.
|
ПОИСК:
|
© LITENA.RU, 2001-2021
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'