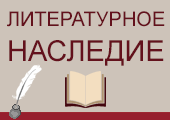
Неисчерпаемость глубины
Литературный герой... Обобщенный, сотканный из тысяч разноликих черточек и свойств бытия образ? В жизни он подчас оказывается неизмеримо глубже и интереснее многих литературных персонажей. И этот новый герои, наш современник, предъявляет свой счет искусству.
Институт Мировой литературы имени А. М. Горького попросил меня провести беседу с Алексеевым. Затевалась интересная дискуссия, и мнение Михаила Николаевича в этом споре было авторитетным и интересным.
- В каком плане видится вам дальнейшее развитие литературы о войне? - спросил я. - Судьбы "военного" романа? Эволюция и качественное обновление его? Тема Отечественной войны в искусстве - вечная тема. Это тема человека, до конца, самым жесточайшим образом испытанного на прочность и верность Родине, народу, знамени. Такой человеческий "материал" неисчерпаем. Никогда. Но литература о войне не может стоять на месте, замкнуться в круг одних и тех же проблем, сюжетов, ситуаций, образов, ставших, хотя бы уже в силу своей повторяемости, несколько традиционными. Настоящее искусство всегда в движении.
Алексеев задумался.
- Каким видится мне завтрашний день литературы о войне? Вероятно, естественным и закономерным был процесс первых десятилетий, последовавших за 1945 годом: писатели в основном, даже писатели незаурядного таланта, давали войну "близким планом". Романы, повести, поэмы и стихи были своего рода реакцией на увиденное и пережитое самими литераторами.
Осмысление событий в более широком, "глобальном" масштабе требовало и времени, и нового знания, связанного с обязательным введением в общественный обиход и документов, и материалов, и воспоминаний, которые ни в годы войны, ни сразу после нее не могли быть обнародованы как советские, так и зарубежные, особенно немецкие.
- Но любые документы и материалы пишутся людьми, а потому отражают так или иначе личностную оценку событий и фактов. Не говоря уж о том, что, скажем, советские, немецкие, английские и американские материалы трактуют зачастую одни и те же явления с полярно-противоположных классовых, идеологических точек зрения. Все это требовалось критически осмыслить, сопоставить, проанализировать, чтобы представить для самого себя объективную картину, причины и следствия свершившегося. Само видение войны писателем становилось масштабнее, объемнее. Здесь, на мой взгляд, и в жизни, и в литературе шли два взаимосближающихся процесса. С одной стороны, у самих литераторов не могла не родиться потребность выразить правду о войне в крупномасштабных полотнах. С другой - потребность такого масштабного и всестороннего знания этой правды постоянно росла у читательских масс. Явления эти были рождены самой развивающейся жизнью и, следовательно, не могли не быть так или иначе реализованы творчеством.
- Я всегда, - заметил Михаил Николаевич, - был противником противопоставления "окопной" некоей, якобы существующей отдельно и не взаимосвязанной с ней, "штабной" правде. Речь идет не об этом. Но, образно говоря, литература, художнически исследовав "окоп", не могла остановиться на таком рубеже. Ей нужен был и анализ "мозга" войны, тончайших взаимосвязей процессов, происходящих на передовой, с общей военной доктриной, политикой партии и государства...
Здесь для всех нас, писателей, вечным высоким примером всегда будут служить такие изумительные создания таланта, как "Война и мир" Л. Толстого, "Тихий Дон" М. Шолохова или "Хождение по мукам" А. Толстого. В этих монументально-масштабных полотнах художником приведены в движение все слои общества, дан художнический анализ состояния самого общества в годы военного лихолетья.
К такому видению жизни мы, писатели, рассказывающие о войне, по крайней мере должны стремиться.
Я вполне даю себе отчет о непомерной трудности решения таких задач, что эти решения по плечу только очень большому таланту. Думается, время должно родить такой талант, и художник такого видения жизни явится.
А "груз" "материала", если речь вести о Великой Отечественной войне, здесь будет "потяжелее", чем во времена Л. Толстого: история, жизнь еще никогда не предлагали писателю "на раздумье" столь сложных и противоречивых "узлов" социального бытия. Какая и идейная и художническая мудрость нужны литератору хотя бы для того, чтобы объективно, не упрощая существа проблемы, проанализировать отношение с союзниками в годы второй мировой войны, раскрыть причинность и противоречивость обстоятельств, заставивших наших идеологических противников стать с нами по одну сторону "баррикад" в борьбе с фашизмом. И как мучителен был такой, казавшийся противоестественным, союз империалистов типа Черчилля со страной и строем, борьбе с которыми они, собственно, посвятили всю свою жизнь. Сколько тайных акций, несовместимых с честностью межсоюзнических отношений, родила эта естественная противоестественность не только к концу войны, но и в самые жестокие ее годы. Достаточно вспомнить все, что связано с открытием второго фронта.
Я привел только один пример, а сколько таких сложнейших "узлов" социального, философского, нравственного порядка придется "развязывать" писателю, решившему дать панорамное полотно последних десятилетий.
Мне кажется, что наша литература о войне живет сейчас предчувствием народной, масштабной эпопеи.
Само движение такой литературы в последние годы позволяет сделать такой вывод. И дело здесь совсем не в факторе количественного охвата в книге лиц, явлений и событий. Речь идет о качественно ином взгляде на них.
Я много размышлял о последних романах А. Чаковского, К. Симонова, Ю. Бондарева, И. Стаднюка и многих других своих коллег. В той же "Блокаде" А. Чаковского взята вроде бы одна "горячая точка" войны: Ленинград. Но взята она уже не однолинейно и не однопланово, как это случилось во многих, даже талантливых произведениях недавних лет. Эта "точка" высвечена со всех сторон. Здесь видна масштабность видения художника, что представляется мне и принципиально важным, и качественно новым шагом вперед в исследовании искусством правды о войне.
Только на таком пути поиска, па мой взгляд, и может родиться роман завтрашнего дня. Этот день я вижу как утверждение в искусстве народного романа-эпопеи...
Юрий Бондарев написал специальную работу - "Тенденции развития военно-исторического романа". "Одна из непоколебимых аксиом искусства, - говорил он, - может быть выражена, как мне кажется, следующей формулой: только отвергая высотобоязнь и глубинобоязнь, превратный и сложный литературный процесс способен идти по восходящей". Главную тенденцию развития жанра Ю. Бондарев определяет как "попытку нового исследования человека в движении истории и движение истории в человеке, то есть этого известного и изменяющегося диалектического единства и диалектического противоречия нравственного порядка".
Опытом такого исследования уже обогащена советская литература. Это герои Л. Леонова - танкисты Собольков и Литовченко ("Взятие Великошумска"), Колесников ("Нашествие"), персонажи М. Шолохова ("Они сражались за Родину"), моряки Л. Соболева ("Морская душа"), семья Тараса Б. Горбатова ("Непокоренные"), Сабуров К. Симонова ("Дни и ночи"), разведчики В. Кожевникова ("Март - апрель"), Травкин ("Звезда" Эм. Казакевича), Аким Ерофеенко ("Солдаты" М. Алексеева), Андрей Лопухов ("Белая береза" М. Бубеннова) и многие, многие другие, о которых уже шла речь в этой книге.
Новая проза о минувших битвах и о ратном подвиге наших современников рождается в муках, полемике, поиске; закономерный, естественный процесс, где есть свои и победы и поражения. Завоевание идейных и художественных высот связано с глубинной разведкой. Но и сейчас уже очевидно, что солдат и матрос семидесятых годов несхож с теми, кто нес боевую службу даже в пятидесятых и шестидесятых. Еще идут громокипящие споры о процессах и явлениях, уже прочно вошедших в жизнь, но во Многом еще неясных, дискуссионных, малоизученных. Такой анализ тем более сложен, когда речь идет о духовном, нравственном бытии с его постоянно меняющимися оттенками и красками. Кисть еще рука не донесла до мольберта, а "натура" уже стала иной. Вроде бы прежней, но в чем-то уже незнакомой. Движение литературы как раз и состоит в изучении таких процессов. Жизнь, запечатленная хотя бы в мгновенной статике, - разве это жизнь?..
Но и к Великой Отечественной войне, сколько бы десятилетий ни отшумело над планетой, всегда будет приковано пристальное и благоговейное внимание литературы: слишком велик и значителен для всей мировой истории бессмертный народный подвиг. Эта проза - тоже в движении. Иначе она была бы обречена на самоповторение и не дарила бы нам открытий, которые неотвратимы с приходом в искусство каждого нового самобытного таланта.
Потому и первоначальный творческий замысел писателя, как правило, не остается неизменным.
Когда я впервые узнал у того ясе Анатолия Ананьева, что "Тельтов-канал" - роман о войне, то спросил, имея в виду творческий опыт писателя в книге "Танки идут ромбом":
- Но это будет роман, написанный с более высоких позиций? Позиций, завоеванных временем, расширившимися и углубившимися нашими знаниями о событиях тех лет?
- Безусловно. Предчувствие выхода на такие высоты не оставляло меня, когда я еще писал "Танки...".
Имеется в виду это? - я достал из папки выписку из давней статьи Ананьева. - "Но теперь писать о войне с позиций взводного или ротного командира невозможно, вернее, недостаточно. Хочется взглянуть на события тех лет уже не из глазной прорези танка и даже не через стереотрубу с полкового командного пункта, а выбрать такую точку, с которой можно было бы охватить более широкую панораму событий. Мне кажется, именно в этом направлении работают сейчас писатели, пишущие на военную тему. В романе "Танки идут ромбом" я как раз и пытался найти такую точку, создать впечатление одновременности самых разных событий, происходящих па разных участках и даже на разных континентах земли в один день, в одно и то же время.
Но одна сторона - описание событий, стратегических и тактических передвижений армий и корпусов, другая - человек на войне. Это должно быть главным. Русская литература имеет замечательные образцы такой военной прозы. "Севастопольские рассказы" Льва Толстого, на мой взгляд, до сих пор остаются непревзойденными.
Сейчас много говорят о философском осмыслении войны, как о чем-то новом; но только философское осмысление и может приблизить роман или повесть на эту уже историческую тему к сегодняшнему дню, к нашей действительности и многое объяснить в ней. Всякое событие, впрочем, требует философского осмысления, если серьезно подходить к его описанию".
- И это, и многое другое. Происходит вроде бы парадоксальный процесс: чем более удаляются от нас годы воины, тем острее становится общественный интерес к событиям тех лет. И более требовательным - читатель. Раньше в письмах чаще всего встречался вопрос "Как это было?". Теперь - "Почему? Каким образом? В какой связи находились события и люди с процессами, определявшими тогда ход истории?.."
Ананьев первоначально задумал "Тельтов-канал" как книгу "чисто военную". А потом...
- Вначале, - рассказывает он, - я хотел написать о берлинской операции, о последних днях войны. Отсюда - и условное название "Тельтов-канал". Однако впоследствии этот замысел разросся. Охватил послевоенные годы и сегодняшний день. Иначе причины и следствия событий осмыслить было невозможно. Потому как-то незаметно вначале для меня самого в книгу стали "вторгаться" и новые жизненные наблюдения, и размышления о сегодняшнем дне...
"Предчувствие эпопеи..."? Знамение времени? Требование общества? Закономерность поступательного развития литературы? Вероятно, и то, и другое, и третье. Потому что народная освободительная война - это та же жизнь общества. Только в обстоятельствах особых, чрезвычайных, но тем более выявляющих и национальный характер, и природу социальных систем, противостоящих друг другу. Судьба и характер отдельных личностей и событий не могут быть глубинно раскрыты вне таких нравственных и философских связей.
Это остро чувствовал В. Г. Белинский, когда писал: "Общенародная война, которая пробудила, вызвала наружу и напрягла все внутренние силы народа, которая составила собой эпоху в его... истории и имела влияние на всю его последующую жизнь, - такая война представляет собою по превосходству эпическое событие и дает богатый материал для эпопеи".
На подступах литературы к новым высотам хочется вспомнить эти слова.
|
ПОИСК:
|
© LITENA.RU, 2001-2021
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'