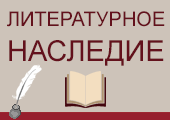
Струна студенческой гитары (Н. М. Языков)

Языков Н. М. (1803 - 1846)
Моя поэзия росла Самостоятельно и живо, При звонком говоре стекла, При песнях младости гульливой, И возросла она счастливо - Резва, свободна и смела...

Небольшой лифляндский городок на покатых приречных холмах. Весной тонет он в зелени лип, в пышных кустах сирени и до краев наполнен неумолкаемой россыпью соловьиных песен. Дома в нем с узковерхими черепичными крышами, улицы узковаты и надежно утрамбованы обкатанной булыгой. Почти в каждом окне цветы в аккуратных горшочках. В садах за свежевыкрашенными калитками чинно, рядами разместились кусты красной и черной смородины, крыжовника, малины. Всюду скамеечки, беседки - в чисто немецком вкусе. Да и немецкая речь звучит в каждом доме, на улицах, в тенистом парке, куда по воскресным дням собираются горожане. И, кажется, весь этот городок целиком - со всеми жителями, домами, кирками, вывесками, лавчонками ремесленников, аккуратно подстриженными липами - целиком перенесен сюда из Германии, из соседней Восточной Пруссии, зажиточной, хозяйственной и добродетельно-мещанской. И название у города немецкое - Дерпт, хотя входит он в состав Империи Российской ив древние времена назывался по-русски - Юрьев. Но расположен он на земле эстов, трудолюбивого народа, не один век терпевшего иго немцев - рыцарей Ливонского ордена. С переходом в российское подданство мало что изменилось в подневольной крестьянской судьбе жителей этого края. Прусские бароны по-прежнему владеют их землями, держат их в крепостном рабстве, населяют их города - и в том числе этот самый Дерпт, который эсты называют по-своему - Тарту. В городе, сплошь немецком, и не увидишь коренных жителей страны - разве что в воскресный день на базаре, куда привозят они из деревень и баронских усадеб на подводах овощи и всякую живность.
Город невелик, но славится он своим почтенным старинным университетом, где преподают степенные немецкие профессора степенную немецкую филологию, математику и медицину. И хотя подчинен этот университет царскому Министерству народного просвещения, все здесь устроено на свой особый, прибалтийский лад: русский язык соседствует с немецким и часто уступает ему первенство. Шумное студенчество разбито на корпорации, по иноземному образцу, и каждая из них носит шапочку особого цвета, устраивает дружеские попойки, дерется на дуэлях, должает квартирным хозяйкам, соревнуется в удальстве и дебоширстве. Есть и русская корпорация в среде этих немецких буршей, но она носит название "землячество", и верховодит в ней не очень высокий, плотного сложения, белокурый студент, уроженец симбирского Приволжья, Николай Михайлович Языков.
Он приехал сюда осенью 1822 года из Санкт-Петербурга после неудачной попытки начать там высшее образование. Родные и знакомые посоветовали ему отправиться в Дерптский университет, который считался в те времена одним из лучших учебных заведений России. Студенты здесь пользовались к тому же целым рядом либеральных привилегий. Все это, разумеется, было по душе юноше с порывистым, независимым характером. Свобода студенческой жизни, да еще вдали от зоркого ока царских властей, своеобразие непривычного быта, тихий и уютный городок, в котором едва ли не треть населения состояла из учащейся молодежи, - все это захватило Языкова с первых же шагов, и он с увлечением принялся за занятия на философском факультете. С той же непосредственностью вошел он и в студенческую среду, делившую свое существование между лекциями и дружескими сборищами, где звенела гитара, лились хоровые песни, длились жаркие споры о политике, об искусстве, слагались эпиграммы на профессоров-педантов, воспевались в чувствительных мадригалах местные красавицы и уж, конечно, не обходилось дело без застольных тостов за стаканами крепкого пунша. Языков скоро стал душой этих приятельских собраний. К тому же всем его друзьям было известно, что он пишет стихи, которые охотно печатают в своих журналах и альманахах почтенные столичные литераторы: Воейков, Измайлов. Они же безудержно хвалят двадцатилетнего поэта и предсказывают ему блестящую будущность.
Стихи Языкова по-юношески задорны, стремительны, он уже мастерски владеет строфой и умеет сообщать словам своим особую торжественную интонацию - свидетельство молодости и свежести незаурядного дарования. Такие стихи, выражающие непосредственные, пусть не очень глубокие, но сильные чувства, были многим по душе в пору увлечения романтизмом. И особенно удаются Языкову студенческие песни. Он создает их одну за другой, перемежая чувствительными элегиями, - и все это быстро расходится в списках, становится общим достоянием. Его поэтическая слава певца дружбы и застольной чаши давно уже вышла за пределы университетского круга.
В Дерпте Языков провел около семи лет - лучшую пору своей творческой молодости. Здесь он вырос и окреп как поэт, здесь пережил глубокую, но безответную любовь к А. А. Воейковой - героине "Светланы" Жуковского, посвящая ей почти все свои элегии той поры. Отсюда в 1826 году ездил в село Михайловское, к опальному Пушкину и подружился с близкой поэту семьей Осиповых в соседнем Тригорском. В Дерпте обострилось у него чувство патриотизма, влечение ко всему русскому, зародился интерес к родной истории, к древней славе отечества.
В конце 1829 года Языков покинул Дерпт, так и не завершив университетского курса. Его влекла к себе литература. Он поселился в Москве и за четыре проведенные там года тесно сблизился с кругом славянофилов, подружился с братьями Аксаковыми, с Киреевскими, с Каролиной Павловой, с Хомяковым. Начался новый период его жизни, резко отличающийся от того, который был пережит в студенческие годы.
Уже не было прежней удали и беззаботного веселья застольных песен. Не было и более значительного в творчестве поэта - страстной и смелой ненависти к произволу самодержавия, влечения к светлому слову "свобода". Вольнолюбивый нрав дерптского студента как бы притих и потускнел. И хотя в 1833 году был им выпущен первый сборник лучших стихов студенческой поры, отношение к поэту складывалось не в его пользу. Языков поддался общему чувству угнетенности, которое охватило либеральные общественные круги после разгрома декабризма, а свойственное ему чувство патриотизма оказалось благодатной почвой для сочувствия славянофильским идеям.
Языков начал терять прежнюю популярность среди прогрессивно настроенной молодежи.
В 1831 году у Языкова обнаружились первые признаки тяжелой болезни, которая не покидала его все дальнейшие годы, то ослабевая, то вновь наступая с прежней силой. Он уехал в свою симбирскую деревню и на три года обрек себя на полное одиночество. Писал он в это время мало - и главным образом стихотворные послания к друзьям, вспоминая более счастливые годы своей жизни. Впервые попробовал силы и в эпическом жанре, сочинив драматическую поэму-сказку "Жар-птица", не имевшую успеха даже в дружественных ему кругах. Болезнь обострилась, пришлось уехать для длительного лечения за границу. На южногерманских курортах Языков провел в общей сложности около пяти лет, сильно тоскуя по родине.
Временное улучшение общего состояния позволило ему в 1843 году вернуться в Москву. Он попал в самый разгар полемической борьбы "западников" и "славянофилов" я принял в ней живейшее участие, обнаружив при этом исключительный боевой задор. Но славянофилы уже начали терять свои прежние позиции. Общественное мнение прогрессивно настроенных кругов было на стороне "западников", прислушивалось к голосу Герцена, Белинского, Грановского. Нарождалась новая демократическая интеллигенция, чутко следившая за революционным движением, нараставшим во многих странах Европы. Языков со своими друзьями-славянофилами оказался вне основного течения общественной жизни. Его полемические выпады против идейных противников не достигали цели. Они только окончательно уронили его в мнении либерально настроенных читателей. Выпущенные им в это время сборники - "56 стихотворений Н. Языкова" (1844) и "Новые стихотворения" (1845) - были встречены либо холодно, либо равнодушно.
Языков пытается искать новых путей в творчестве. Не без влияния победно развивавшейся в это время реалистической прозы он пишет сюжетные стихотворные повести, стараясь воспроизводить в них будничную бытовую обстановку, в которой действуют столь же будничные герои, но и эти произведения не находят положительного отклика, хотя они и не лишены некоторых литературных достоинств. И самые темы, и разработка характеров были очень уж примитивны и лишены сколько-либо значимого идейного содержания. "Сержант Сурмин" - незначительный анекдот из жизни всесильного самодура екатерининских времен Потемкина, "Липы" - незамысловатая история, рассказывающая о самоуправстве губернских властей при посадке нового городского бульвара, драматическая сказка "Жар-птица" - скорее повествование общеромантического характера, чем воспроизведение русского народного духа и языка. В своих сказках Языков явно вступал в спор с Пушкиным, просторечие которого, очевидно, казалось ему снижением высокого поэтического стиля. Некоторая торжественность и романтическая приподнятость тона сопутствуют поэзии Языкова до конца его дней, хотя он и делает попытки овладеть манерой более простого, реалистического стиха. И в отдельных случаях ему это удается - особенно в стихах заграничного периода, где описывается обычная обстановка и пейзаж небольших германских курортных городков. Но привычная славянофильская нетерпимость ко всему западному и "квасной патриотизм", проявившийся в нападках на Чаадаева, Герцена и Грановского, вызвали недовольство даже в близкой ему среде. Каролина Павлова, - поэт, симпатизирующий славянофильским воззрениям и дружески связанный с Языковым, - вынуждена была дать ему резкую отповедь:
Во мне нет чувства, кроме горя, Когда знакомый глас певца, Слепым страстям безбожно вторя, Вливает ненависть в сердца. И я глубоко негодую, Что тот, чья песнь была чиста, На площадь музу шлет святую, Вложив руганья ей в уста...
Путь Языкова завершался в мрачном отчуждении от прогрессивной литературы, вне основного течения русской поэзии. Наступало время Белинского, Некрасова. Новый читатель предъявлял к искусству новые требования, более соответствующие запросам общественной жизни. Языков же был весь в прошлом. Если о нем и вспоминали, то только как о поэте пушкинского времени, когда темпераментные стихи его казались откликом на передовые идеи века. В сознании читателя возникал тогда образ юного поэта дерптских студенческих времен, горячее, пылкое творчество которого было отмечено свободолюбием и несомненным творческим своеобразием.
Продолжительная неизлечимая болезнь приблизила конец Языкова. Он умер сравнительно молодым, 43-х лет, успев оставить все же заметный след в общем развитии отечественной поэзии.
Языков был человеком порывистым и порою резким. Вероятно, был при этом и хорошим товарищем в своем студенческом кругу, признанным главою всех дружеских сборищ. Он любил верховодство и суждения свои высказывал очень прямо и безоглядно, не щадя чужих самолюбий. В какой-то мере он даже считал себя обязанным в немецком мещанском городке, среди немецких обычаев, всюду проявлять русскую широкую натуру природного "волжанина".
Застольные круговые песни писались и до Языкова, но у него они приобрели особую окраску. Песни его дышат непосредственностью и совершенно освобождены от мифологических и литературных заимствований. В этом отношении они несколько напоминают стихи Дениса Давыдова - с той только разницей, что вызвала их к жизни не военная, а студенческая среда.
От сердца дружные с вином, Мы вольно, весело живем: Указов царских не читаем, Права студентские поем, Права людские твердо знаем...
Своеобразное свободолюбие обеспечивало стихам широкую популярность даже в то время, когда они появлялись изредка в журналах или расходились в потаенных списках. В них, действительно, многое отвечает настроениям преддекабристской эпохи. Резко критическое отношение Языкова к царскому правительству и к личности самого царя выражалось им достаточно прямо и энергично. Своему приятелю по университету Н. Д. Киселеву он пишет:
Служитель алтарей богини вдохновенья Умеет презирать неправые гоненья, - И все усилия ценсуры и попов Не сильны истребить возвышенных стихов. Прошли те времена, как верила Россия, Что головы царей не могут быть пустые И будто создала благая дань творца Народа тысячи - для одного глупца; У нас свободный ум, у нас другие нравы: Поэзия не льстит правительству без славы; Для нас закон царя - не есть закон судьбы, Прошли те времена - и мы уж не рабы!
(1823)
"Свободный ум" Языкова привольно ширил свои крылья в гостеприимной тени эстонских лип, в маленьком, далеком от чиновного Петербурга городке, "где царь и глупость - две чумы - еще не портят просвещенья" и где "дни мои, как я в халате, стократ пленительнее дней царя, живущего некстати".
Языков не был близок с будущими декабристами, но предгрозовая атмосфера, предшествующая восстанию на Сенатской площади, несомненно коснулась и дерптского студента. Вести о разгроме восставших войск 14 декабря 1825 года тяжело отозвались в душе поэта и вызвали к жизни гневные строки - быть может, самое яркое свидетельство ненависти к царизму, на которое был способен Языков в ту, самую светлую полосу своего творческого пути:
Не вы ль убранство наших дней, Свободы искры огневые, - Рылеев умер, как злодей! - О, вспомяни о нем, Россия, Когда восстанешь от цепей И силы двинешь громовые На самовластие царей!
(1826)
Интерес поэта к историческим судьбам родины возник с самого начала его творческого пути. И продиктован он был патриотическими чувствами, занимающими в поэзии Языкова значительное место. Достаточно назвать хотя бы такие его стихи, как "Моя Родина", "Чужбина", "Баян к русскому воину при Дмитрии Донском, прежде знаменитого сражения при Непрядве", "Песнь Баяна", "Песнь барда во время владычества татар в России" (с эпиграфом из "Слова а полку Игореве") и др. Но в отличие от К. Рылеева, который примерно в это же время писал цикл исторических баллад, всюду, где это было возможно, придавая им революционную окраску, стихи Языкова ограничиваются, в основном, воспеванием воинской доблести древнерусских воинов в их борьбе с иноземными поработителями. Языков идеализировал родную старину, и вдохновляли его в основном:
...Славян пленительные нравы: Их доблесть на полях войны, Их добродушные забавы И гений русской старины Торжественный и величавый.
(1822)
Лишь в молодые годы прорывалось в нем чувство любви к истинно свободной родине. В ряду его песен той поры есть одна, которая осталась жить на долгие десятилетия и остается живой до сих пор. Ее подхватило демократическое студенчество. Она стала спутником многих революционных поколений, правда, в несколько измененном, соответственно требованиям времени, виде:
Из страны, страны далекой, С Волги-матушки широкой, Ради сладкого труда, Ради вольности высокой Собралися мы сюда. Помним холмы, помним долы, Наши храмы, наши селы, И в краю, краю чужом, Мы пируем пир веселый И за Родину мы пьем. ........................ Пьем с надеждою чудесной Из бокалов полновесных. Первый тост за наш народ. Первый тост за наш народ, За святой девиз - вперед!
У Языкова последняя строфа звучит несколько иначе и не носит столь ярко выраженного демократического характера:
Но с надеждою чудесной Мы стакан, и полновесный, Нашей Руси - будь она Первым царством в поднебесной, И счастлива и славна!
Языковское понятие "первого царства" сменилось в демократическом обиходе всеобъемлющим и гордым словом "народ", а стремление народа к "вольности высокой" названо "святым девизом".
Так на основе языковской общепатриотической идеи вырос подлинный гимн революционно-демократической молодежи 60-х и последующих годов.
Современники молодого Языкова видели в его стихах, быть может, больше, чем хотел сказать сам автор. Это чувство, очевидно, поддерживалось ощущением всегдашней бодрости и подъема, который был свойствен лирике дерптского студента-поэта. Творчество Языкова действительно отмечено чертами какой-то праздничности и торжественности, не совсем обычными на фоне расплывчатых мечтательных элегий и песен его эпохи. Стих собран, полон движения, передает чувства сильные. В нем есть стремление к душевному простору, к политическому и религиозному вольномыслию, он отмечен широким размахом души - всеми теми свойствами, на которые не могли не отозваться столь же юные, как и сам поэт, сердца. Современники считали, что стих Языкова "кипит и пенится", а Пушкин однажды назвал его стихотворения "хмелем", имея в виду их бурную жизнерадостность. Конечно, муза Языкова в ее юные годы была отголоском романтизма, но не мечтательного, как у Батюшкова и Жуковского, а действенного, живого.
Стихотворное мастерство Языкова было несомненным даже для его недоброжелателей, упрекавших поэта - и порою справедливо - в некоторой нарочитой торжественности патриотических деклараций (в особенности в стихах на исторические темы). Но никто не мог бы отказать ему в искренности молодого и задорного лиризма. Языков - поэт движения. Его чувства подобны стремительной реке - пусть не очень глубокой, но бегущей ровно и бодро даже тогда, когда, казалось бы, печаль и раздумье должны замедлить ее течение. Это сказывается не только в ярких оборотах речи, в резковатых красках, но и в самом пристрастии к ямбу и хорею, к тем размерам, которые преимущественно передают душевное волнение и стремительный ход мысли. Медлительные и раздумчивые дактиль и амфибрахий приходят к Языкову уже в последний период его творчества, отмеченный мрачноватой меланхолией человека, отягощенного болезнями, потерявшего связь со всем живым и прогрессивным.
Поэтическая слава Языкова неразлучна с его молодостью. Именно в этот период были созданы его лучшие стихи, утверждено мастерство, обратившее на себя внимание всех ценителей поэзии. Языков был наследником существовавших в его время поэтических традиций, но он умел внести в них нечто свое, новое, и тем самым занять особое, ему одному принадлежащее место. Преодолевая романтические условности, он смело шел к образности точной и выразительной, несомненно под влиянием Пушкина, порою даже повторяя его стилистические приемы. Это особенно заметно в дружеских посланиях, которых в творчестве Языкова не меньше, чем песен и элегий. Но было у него и то, что отличало его от многих поэтов сверстников и современников: особая сжатость и упругость стихотворной строки и широкое дыхание, которому было тесно в пределах традиционной четырехстрочной строфики. Языков любил длинные периоды, непрерывное движение эмоциональной, взволнованной речи. Вот начало его стихотворения "Родина":
Краса полуночной природы, Любовь очей, моя страна! Твоя живая тишина, Твои лихие непогоды, Твои леса, твои луга, И Волги пышные брега, И Волги радостные воды - Все мило мне, как жар стихов, Как жажда пламенная славы, Как шум прибережной дубравы И разыгравшихся валов.
С ритмической и эмоциональной стремительностью Языков соединял пристрастие к выразительному и меткому слову. Не довольствуясь установившимся поэтическим словарем, он охотно вступал и на путь собственного словоизобретательства, удивлявшего современников. В его стихах то и дело мелькают непривычные выражения и словесные новшества: "таинственник", "удовольственно", "людкость", "своенародный", "надоедник", "подружник", "томитель", "многогранная война", "скакун звучнокопытный", "праздничать", "браннолюбивая старина", "искрокипучее вино", "сладкопевный", "разнобоярщина Парнаса", "отдых миговой" и т. д. Далеко не все здесь удачно, но, очевидно, необычные речения нужны были поэту, стремящемуся к предельной выразительности. Во всяком случае, они составляют приметную особенность его поэтического словаря.
Заметно и тяготение к словам сложным и полновесным, плотно заполняющим строку: "золотоцветный", "голубоводный", "словоохотный", "костоломные зубы", "беспажитная поляка" и даже "возмутительный (в смысле "вдохновляющий") стакан".
Но очень смелых метафор и причудливых эпитетов у Языкова сравнительно немного. Он предпочитает оставаться в пределах общепринятой литературной манеры - очевидно потому, что и темы его не представляли собой ничего принципиально нового. Это - юношеское упоение независимой жизнью, бытовой обиход студенческого беспечного житья, вольнолюбивые выпады против царского режима, прославление свободы в общих и туманных представлениях о ней, патриотические воспевания героев отечественной древности, элегические раздумья о безответной любви. А в более поздний период - сожаления о бурно промелькнувшей молодости, торжественные и несколько рассудочные рассуждения на исторические и библейские темы под славянофильским углом зрения, послания к друзьям с жалобами на свои болезни и стихи, написанные за границей, в которых тревожно и порою страстно прорывается тоска по далекой, любимой Родине.
Современников привлекала в стихах Языкова не только их тематика, бытующая и у других поэтов того же поколения. Достойны удивления были быстрота и стремительность его яркой поэтической речи, умение единым дыханием вести многострочную строфу. "Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так. что остановишься, пораженный". Так писал о Языкове Гоголь. Конечно, в этом была некоторая доля дружеского преувеличения, но, большой знаток и ценитель поэтического слова, Гоголь совершенно точно указал на одну из стилистических особенностей Языкова.
Возможно, он имел в виду и эти патриотические строки, воспоминание о героизме 1812 года:
Чу! труба продребезжала! Русь! тебе надменный зов! Вспомяни ж, как ты встречала Все нашествия врагов! Созови из стран далеких Ты своих богатырей, Со степей, с равнин широких, С рек великих, с гор высоких, От осьми. твоих морей!
Пламень в небо упирая, Лют пожар Москвы ревет; Златоглавая, святая, Ты ли гибнешь? Русь, вперед! Громче буря истребленья, Крепче смелый ей отпор! Это жертвенник спасенья, Это пламя очищенья, Это фениксов костер!
Поэтическая речь подчинена здесь определенным ораторским приемам (призывы, восклицания, настойчивые повторы), и ей нельзя отказать в стремительности, в силе, в энергичном завершении строфы.
Убежденный приверженец "громкозвучности", Языков умеет так организовать звуковую сторону своего стиха, что у воспринимающего его на слух создается впечатление особой торжественности и приподнятости. Нередко пользуется поэт и расчетливо введенными звуковыми повторами, приберегая их для последних, требующих особой выразительности, строк.
Молю святое провиденье: Оставь мне тягостные дни, Но дай железное терпенье, Но сердце мне окамени. Пусть, неизменен, жизни новой Приду к таинственным вратам, Как Волги вал белоголовый Доходит целый к берегам.
Столь же выразительны в звуковом отношении и другие его аллитерации: "Мой бойкий ямб четверостопный, мой говорливый скороход", "Шумел, трещал прибрежный лес и, словно Волга, волновался".
Хотя Языков и прославляет полную свободу творчества, говорит, что "гений жаться не обязан", ставит себе в заслугу непосредственность и как бы небрежность поэтической речи, он все же строго следит за своим словом и отнюдь не пренебрегает правилами точности и изобразительности. Кто бы мог дать в более емких, сжатых строках изображение всех внешних особенностей собственного студенческого быта?
...бодрость чувств и сил, Ученье, дружбу, вольность нашу, Гульбу, шум, праздность, лень - я слил В одну торжественную чашу. И пил, да пел...
Уже покинув Дерпт, вспоминая в 1831 году свое беспечное существование в этом навсегда его пленившем городке, Языков с той же точностью говорит обо всем, что дарила ему жизнь:
Там, смелый гость свободы просвещенной, Певец вина, и дружбы, и прохлад, Настроил я, младой и вдохновенный, Мои стихи на самобытный лад - И вторились напевы удалые При говоре фиалов круговых! Там грудь моя наполнилась впервые Волненьем чувств заветных и живых И трепетом, томительным и страстным, Божественной и сладостной любви. Я счастлив был: мелькали дни мои Летучим сном, заманчивым и ясным.
Певец радости и личной свободы, Языков почти во всех своих стихах лирического характера говорит только о себе, о волнующих его в эту минуту переживаниях. Он словно лишен способности перевоплощаться, входить в чужое чувство, по крайней мере откликаться на него. Но это не значит, что поэт равнодушен к окружающему его миру, к обликам природы. Правда, стихов чисто изобразительных у него не так уж много, но все они отличаются точностью зримых образов. Достаточно прочесть его стихотворение "Две картины", где изображается Чудское озеро при восходе солнца и при лунном свете, чтобы в этом убедиться. Стоит привести эти стихи целиком.
Прекрасно озеро Чудское, Когда над ним светило дня Из синих вод, как шар огня, Встает в торжественном покое: Его красой озарена, Цветами радуги играя, Лежит равнина водяная, Необразима и пышна; Прохлада утренняя веет, Едва колышутся леса; Как блестки золота, светлеет Их переливная роса; У пробудившегося брега Стоят, готовые для бега, И тихо плещут паруса; На лодку мрежи собирая, Рыбак взывает и поет, И песня русская, живая Разносится по глади вод.
Прекрасно озеро Чудское, Когда блистательным столбом Светило искрится ночное В его кристалле голубом: Как тень, отброшенная тучей, Вдоль искривленных берегов Чернеют образы лесов, И кое-где огонь плавучий Горит на челнах рыбаков; Безмолвна синяя пучина, В дубравах мрак и тишина, Небес далекая равнина Сиянья мирного полна; Лишь изредка, с богатым ловом Подъемля сети из воды, Рыбак живит веселым словом Своих товарищей труды; Или - путем дугообразным С небесных падая высот, Звезда над озером блеснет, Огнем рассыплется алмазным И в отдаленьи пропадет.
Изобразительность становится особенно убедительной, когда она согрета живым, непосредственным чувством. В жизни Языкова был период, когда он, выйдя из круга привычных ему застольных студенческих песен и любовных элегий, соприкоснулся с миром русской природы и усадебного быта, да еще в обществе близкой ему дружеской семьи. Это было летом 1826 года в имении Осиповых, в Тригорском, и в соседнем сельце Михайловском, где жил в то время опальный Пушкин. Встреча двух поэтов была дружеской, сердечной. Вместе с их общим приятелем А. Н. Вульфом, товарищем Языкова по университету, они были неразлучны и в беседах, и в веселых играх молодежи Тригорского в тенистом парке на берегах тихой и извилистой Сороти. Языков вспоминал впоследствии об этом времени, как о самых счастливых днях своей молодости. Его стихи, посвященные Тригорскому и общению с Пушкиным, дышат особой задушевностью и пленительной простотой.
...И часто вижу я во сне: И три горы, и дом красивый, И светлой Сороти извивы Златого месяца в огне, И там, у берега, тень ивы - Приют прохлады, в летний зной, Наяды полог продувной; И те отлогости, те нивы, Из-за которых вдалеке, На вороном аргамаке, Заморской шляпою покрытый, Спеша в Тригорское, один - Вольтер и Гете и Расин - Являлся Пушкин знаменитый; И ту площадку, где в тиши Нас нежила, нас веселила Вина чарующая сила - Оселок сердца и души; И все божественное лето, Которое из рода в род, Как драгоценность, перейдет, Зане Языковым воспето!
Быть может, этот цикл - одна из вершин языковской лирики. Он сохранил нам немало бытовых подробностей из жизни Пушкина и - что еще важнее - духовную атмосферу, которой дышал в те дни обреченный на изгнание поэт. И все это рассказано голосом любящего друга, которому особенно дороги волнующие его воспоминания.
С особой сердечностью говорит Языков и о няне, Арине Родионовне.
Свет Родионовна, забуду ли тебя? В те дни, как сельскую свободу возлюбя, Я покидал для ней и славу, и науки, И немцев, и сей град профессоров и скуки, Ты, благодатная хозяйка сени той, Где Пушкин, не сражен суровою судьбой, Презрев людей, молву, их ласки, их измены, Священнодействовал при алтаре камены, - Всегда приветами сердечной доброты Встречала ты меня, мне здравствовала ты, Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета, Ходил я навещать изгнанника-поэта... ............................................. С каким радушием - красою древних лет - Ты набирала нам затейливый обед! Сама и водку нам, и брашна подавала, И соты, и плоды, и вина уставляла На милой тесноте старинного стола! Ты занимала нас - добра и весела - Про стародавних бар пленительным рассказом...
К воспоминаниям студенческой молодости Языков возвращался впоследствии особенно охотно. Это одна из главных тем его дальнейшего творчества. И, надо сказать, самая светлая на мрачноватом фоне декларативно-славянофильских рассуждений и полемических выпадов против всего нового в литературе и жизни.
Шли годы, все дальше и дальше уносили они в прошлое память о прежнем свободолюбии, о счастливых днях беспечной юности.
Отпел я молодость и бросил кое-как Потехи жизни той шумливой, беззаботной, Удалой, ветреной, хмельной и быстролетной; Бог с ними!.. Моя поэзия - хвала и слава ей! - Когда-то гордая свободою своей, Когда-то резвая, гулявшая небрежно, И загулявшаясь едва не безнадежно, Теперь уже не та...
Не было притока новых впечатлений, прошлое решительно взяло верх над настоящим, и все чаще и чаще приходилось возвращаться к уже пережитому, к испытанному.
Языков стал повторять самого себя, хотя порою и вырывались у него стихи, полные давней стремительности и силы - "могучей мысли свет и жар и огнедышащее слово". Так почтил он в тридцатых годах пылким посланием дружбы Дениса Давыдова, так, обращаясь к идеальному образу "Поэта", призывал он его "идти в мир" и с чисто романтической приподнятостью восклицал:
И стройные, и сладостные звуки Подымутся с гремящих струн твоих; В тех звуках раб свои забудет муки, И царь Саул заслушается их...
Но это были сравнительно редкие вспышки поэтического озарения. С ними, как и со своей мятежной молодостью, поэт расставался длительно, как бы горестно наслаждаясь затянувшеюся разлукой. Уходили прежние друзья, уходили силы и здоровье ("Где ж они? Одних не стало, а другим не до него!"). Грустным туманом предзакатных сумерек затянуты отныне дни певца юности, дружбы и свободы. Со своим прошлым Языков простился в конце 30-х годов трогательной элегией, изменив на этот раз своему привычному бодрому ямбу, перейдя на спокойный, раздумчивый амфибрахий.
Я помню: был весел и шумен мой день С утра до зарницы другого. И было мне вдоволь разгульных гостей, Им - вдоволь вина золотого. Беседа была своевольна: она То тихим лилась разговором, То новую песню, сложенную мной, Гремела торжественным хором. ...................................... И ныне... О, где же вы, братья-друзья? Нам годы иные настали. Надолго, навечно, разрознили нас Великие русские дали...
Поэт утешает себя картинами мирного деревенского существования, где окружает его любимая русская природа. Но жизнь стремится вперед и вперед, в то время как он остается в кругу ветшающих романтических представлений.
Болезнь заставляет его подолгу жить за границей, он тоскует по далекой родине, и стихи, которые он продолжает там изредка писать, даже своим внешним обликом и ритмическим складом не похожи на прославившие его юность бурные и праздничные песни, вдохновленные безотчетной радостью бытия. Они гораздо скромнее, раздумчивее и уже явно тяготеют к реалистическому изображению окружающего полубольничного невеселого быта. Правда, врожденный оптимизм еще поддерживает тающие силы поэта, но оттенок грусти лежит теперь на его даже чисто описательных стихах.
Вот что пишет он в 1839 году в курортном немецком городке Ганау:
...туманный день, печален и сердит, И снегом и дождем в окно мое стучит, - И что б ни делалось передо мною - муки Одни и те ж со мной; возьму ли книгу в руки, Берусь ли за перо, - всегда со мной тоска: Пора же мне домой... Россия далека! И трудно мне дышать, и сердце замирает; Но никогда меня тоска не угнетает Так сокрушительно, так грубо, как в тот час, Когда вечерний луч давно уже погас, Когда все спит, когда одни мои лишь очи Не спят, лишенные благословений ночи.
Языков вернулся на родину в 1843 году. Последние три года его жизни отмечены подъемом литературной, вернее полемической деятельности в рядах славянофильской партии, упорно не желающей сдавать свои позиции. В том ожесточении, с каким писатель нападает на представителей прогрессивной мысли, слышится упрямство человека, отставшего от своей эпохи, оказавшегося вне большой дороги искусства и не желающего в этом себе признаться. В глубине души Языков, вероятно, чувствовал, что он уже давно пережил свою славу. Его трагедия заключалась в разрыве с передовыми идеями века, в ложно понятом патриотизме, который был устремлен к казенной государственности, а не к народу, как это было у Белинского и Герцена. Глубоко обиженный окружавшим его равнодушием и полузабвением, он умер зимою 1846 года.
Быть может, лучшим памятником этому своеобразному поэту останутся две прославившие его песни, подаренные им народу: "Из страны, страны далекой" и "Пловец".
Нелюдимо наше море, День и ночь шумит оно; В роковом его просторе Много бед погребено. Смело, братья! Ветром полный Парус мой направил я: Полетит на скользки волны Быстрокрылая ладья! Облака бегут над морем, Крепнет ветер, зыбь черней, Будет буря: мы поспорим И помужествуем с ней. Смело, братья! Туча грянет, Закипит громада вод, Выше вал сердитый встанет, Глубже бездна упадет! Там, за далью непогоды, Есть блаженная страна: Не темнеют неба своды, Не проходит тишина. Но туда выносят волны Только сильного душой!.. Смело, братья, бурей полный Прям и крепок парус мой.
Языкову не суждено было одолеть разбушевавшуюся стихию. Но завет мужества, брошенный им вольнолюбивым и стойким сердцам, был поистине революционным. Он вдохновил и вдохновлял впоследствии многих и многих борцов за народное счастье. Эту песню пели демократы и революционеры. И она по праву стала достоянием народа.
|
ПОИСК:
|
© LITENA.RU, 2001-2021
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'