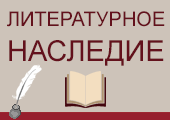
С. Б. Михайлова. Н. Н. Златовратский в полемике вокруг романа И. С. Тургенева "Новь"
Сразу же после опубликования романа И С. Тургенева "Новь" в январской и февральской книжках "Вестника Европы" за 1877 г. вокруг него в критике, в среде демократической интеллигенции и революционной молодежи началась острая и оживленная полемика.
Резко отозвались о "Нови" Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин. Неблагоприятным было для автора мнение и народнической критики (П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев).
Особенно ожесточенные споры развернулись вокруг главного героя романа - Соломина. Большинство народников его не "приняло". Ткачев определил Соломина в ряды "самых заурядных эгоистов", хитро лавирующих между "интересами волков, с одной стороны, и овец - с другой".1 Л. Г. Дейч предсказал, что он "умрет почтенным, всеми уважаемым гласным Думы".2 В последующей трансформации Соломина не сомневался и С. Н. Кривенко. На его прямой вопрос: "А не думаете ли вы, что Соломины легко могут превращаться в простых буржуа или самодовольных навозных жуков?"- Тургенев был вынужден ответить, что "это уж от них зависит".3
1 (П. Н. Ткачев. Уравновешенные души. "Дело", 1877, № 4, стр. 60; № 3, стр. 118.)
2 (Л. Г. Дейч. Русские революционеры в романе И. С. Тургенева "Новь". "Творчество", 1922, № 1-4, стр. 41.)
3 (И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семи десятников. Изд. "Academia", М.- Л., 1930, стр. 241.)
Не принял главного героя "Нови" и Н. Златовратский, молодой, недавно получивший литературную известность писатель. Признавая в письме к Ф. Д. Нефедову от 17 июля 1877 г. роман "оригинальнейшим произведением последнего времени",1 он в повести "Золотые сердца", публикация которой началась через месяц в "Отечественных записках",2 резко отделил свой "идеал", свое понимание "полезного человека" от "идеала" Тургенева, который, по его мнению, в век "торжества принципа среднего образа мыслей, торжества Сувориных, Стасюлевичей и им подобных" "своим Соломиным... санктировал и втащил на пьедестал либералов золотой середины".3
1 (П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Н. Златовратского. "Старый Владимирец", 1911, № 275.)
2 (Интересно, что И. С. Тургенев, находившийся за границей и внимательно следивший за новинками русской литературы, обратил особое внимание на новую повесть Н. Златовратского. В письме А. В. Торопову от 2 (14) сентября 1877 г. он писал: "Знаете ли Вы Златовратского, который пишет повесть в "Отечественных записках"? На днях прочел несколько глав из его "Золотых сердец" - и, к великому моему удовольствию, открыл в нем признаки несомненного таланта ... из него может выйти дельный и умный писатель" (И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем, т. XII, кн. 1, стр. 203). )
3 (П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Н. Златовратского.)
В это время Златовратский начал работу над одной из заключительных глав повести "Золотые сердца", главным действующим лицом которой стал Павел Александрович Колосьин, специально введенный писателем для полемического ответа Тургеневу. Его прообразом несомненно явился главный герой "Нови" Василий Федотыч Соломин (вряд ли их фамилии перекликаются случайно).
По времени "Золотые сердца" как бы продолжают роман "Новь", действие которого относится к концу 60-х годов, к началу знаменитого "хождения в народ", когда создавались новые революционные организации, членами одной из которых - нечаевской "Народной расправы" - и явились тургеневские герои.
Герои Златовратского действуют спустя 6-7 лет, вскоре после того, как большинство "ходивших в народ" было арестовано, брошено в тюрьмы, а в народническом движении наблюдался разброд в теории и практике.
Но в прошлом, как дает понять автор, они также активные участники нечаевской организации, что несомненно делает возможным ряд сопоставлений, отыскание преемственных связей.
Образ разочарованного, рефлектирующего героя повести Морозова, только чудом не покончившего с собой, перекликается с героем "Нови" Неждановым.
Линию Марианны в повести продолжает Катя Маслова. Правда, духовно Катя Маслова оказалась ближе другой тургеневской героине, Елене Стаховой: в ней чувствуется та же самоотреченность, жертвенность, преданность "идее".
Если идейным наследником Соломина явился "новый коммерческий человек" Колосьин, то "серый, неприметный" доктор Башкиров может быть назван его идейным противником в своей непримиримости к любым "артельным начинаниям".
Златовратский именно в Башкирове видел "полезного" человека, отводил ему роль "плуга" в освободительном движении.1
1 (В повести по цензурным условиям эти черты образа Башкирова оказались приглушенными. Однако сохранившиеся в архиве Златовратского рукописи свидетельствуют о намерении писателя создать определенный тип революционера-семидесятника, связавшего свою судьбу нераздельно с судьбой простого народа (ЦГАЛИ, Архив Н. Н. Златовратского, ф. 202, оп. 1, ед. 27, л. 6-7).)
Роман "Новь" и повесть "Золотые сердца" касались самых злободневных вопросов русской жизни.
Расправившееся с революционной молодежью правительство любыми средствами стремилось опорочить народническое движение, дискредитировать его в глазах русского общественного мнения. В 1876 г. оно спешно готовилось к крупному политическому судилищу - "процессу 50-ти". Не только писать о "новой молодежи", но и сочувствовать ей было далеко не безопасно.
И несомненна заслуга И. С. Тургенева, сделавшего попытку в романе "Новь" разобраться в идейных корнях движения, в мотивах, руководящих революционной молодежью, уходившей в "народ".
Но вывести "героическую натуру", создать действительно обобщающий образ революционера-разночинца Тургеневу не удалось. Время Базаровых прошло, Соломин не смог заменить его.
В основу идейного замысла "Нови" Тургенев положил противопоставление "романтиков реализма", "которые ищут в реальном... нечто великое и значительное, а это вздор" (Нежданов), "настоящим практикам на американский лад", делающим "свое дело так же спокойно, как мужик пашет и сеет" (Соломин).1
1 (А. Г. Цейтлин. "Новь". Литературное наследство, т. 76, М., 1967, стр. 108.- И. С. Тургенев и сам чувствовал неудовлетворенность созданными образами "новых людей". Как вспоминал впоследствии Н. Златовратский, на встрече с народническими писателями в начале 1880 г. "Тургенев с большим интересом" расспрашивал о "новых", "оригинальных" людях, о которых, как замечает Златовратский, он мог догадываться, но видеть и знать которых не мог. "Тургенев,- пишет Златовратский,- говорил, что он и сам недоволен "Новью", что это он только наметил некоторые черты, которые мог проследить по своим заграничным знакомым, что он теперь очень занят мыслью глубже изучить это явление и что у него уже теперь имеется план изобразить русского социалиста" (Н. Н. Златовратский. Воспоминания. М., 1956, стр. 310).)
Ориентация Златовратского была прямо противоположной - на "романтиков реализма", на героику подвига.
Идейный замысел "Золотых сердец" он сформулировал сам в письме к Ф. Д. Нефедову: "Либералы "Нового времени" меня разругали за то, что я ввожу в литературу идеализм, в котором нет нужды для нашего реального времени наживы, наглой эксплуатации, потери нравственных устоев! Довольно наша молодежь подражала героям... Она должна выступить на новый путь - эксплуатирующей науки, муравьиного труда и средних нравственных доблестей, ибо геройство и идеализм - есть индивидуальный аристократизм".1
1 (П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Златовратского.)
Раскрытию идейного замысла "Золотых сердец" служит и своеобразное построение повести, в основу которой Златовратский положил не противопоставление "полезного" человека "романтикам реализма", а столкновение духовно близких, но разных по "направлению" людей, каждый из которых отстаивает свою "правду", свою идею.
В этой сложной коллизии порою действительно трудно определить симпатии автора, его собственную точку зрения. Златовратский отвергает лишь либеральные колебания своих героев, не принимает их сомнений, разочарований. Прямо не говоря об этом, он пользуется любой возможностью иронически отметить попытки насаждения в беднеющей деревне "артелей", создание "образцового хозяйства", что даже, по мнению самих героев, является не более, как "мазание по губам", которые и "выеденного яйца не стоят".1
1 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца. Избранные произведения. Гослитиздат, М., 1947, стр. 652, 655.)
Все презрение к либерализму, к возведению "среднего образа мыслей в принцип"1 Н. Златовратский вложил в образ Колосьина.
1 (П. Н. Сакулин. Из литературных переживаний Златовратского.)
Не принимая участия в журнальной полемике по роману "Новь", Златовратский, как нам кажется, постарался дать ему свою оценку в повести, создав образ "нового коммерческого человека" Колосьина, непосредственно продолжающий образ Соломина.
Если Тургенев подлинным положительным героем "Нови" сделал именно Соломина, то Златовратский намеренно вообще не связывает Колосьина сюжетно с остальными действующими лицами. Этот вводный персонаж - отрицательный образ "нового коммерческого человека", не оказывающий непосредственного влияния на судьбы героев повести - был необходим автору как символ не только либералов "золотой середины", но и как символ хищного предпринимательства, наживы, нравственного опустошения, политического индифферентизма.
Колосьин - это вполне сложившийся Соломин, в полной силе и расцвете нравственных и материальных "устоев", тот колос, который еще даст богатый "урожай", породит не одно поколение подобных Колосьиных.
Биография Колосьина как бы продолжает биографию Соломина. Так же как и последний, Колосьин несколько лет провел в Англии, обучаясь механике, но по возвращении, в отличие от Соломина, поднявшегося только до управляющего фабрикой, он, изворачиваясь, приспосабливаясь, хитря, смог завести собственное предприятие.
Положение Колосьина в обществе уже более устойчивое. Если Соломин держится с дворянской знатью без подобострастия, с достоинством, понимая, что в нем нуждаются, то Колосьин чувствует себя совершенно уверенно. Перед ним заискивают "лучшие из дворян", угодливо гнет спину урядник.
С пренебрежительной заинтересованностью относятся к Соломину "столпы общества" (Сипягин, собирающийся переманить его на свою хиреющую фабрику, с барской снисходительностью путает его отчество). Другое дело - Колосьин. Полное пренебрежение чувствуется именно в его отношении к "уездной Палестине". Он не случайно, а намеренно, с чувством полного превосходства, "перевирает" имя исправника, едущего к нему же на фабрику усмирять "вредные элементы" ("Извините-с, господин ... как? Колпаков?"- Калмыков... к вашим услугам,- поправил любезно исправник...- "Если вам, господин Колпаков, будет угодно сопровождать меня" и т. д.).
Отношение их к дворянству почти идентично. Оба они, и Соломин и Колосьин, видят слабость дворянства, никчемность, неумение приспособиться к новым условиям. Но в 60-е годы Соломин мог только констатировать неизбежность перехода "дворянских заведений" - фабрик и мануфактур - в руки купцов, тщетность их попыток как-то удержаться на поверхности и не захлебнуться в водовороте пореформенных перемен. В новых условиях, когда дворянство уже "спустило с поспешной торопливостью выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков",1 Колосьин считает обоснованным и закономерным такой переход.
1 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 660.)
На рубеже 60-70-х годов, в обстановке крайнего общественного возбуждения, Соломину еще приходилось прикрываться либеральными фразами, "заигрывать" с фабричными. Колосьин действует в другой обстановке. Правительственная реакция, отсутствие единства в революционном лагере делают его более уверенным в своих действиях. Как чистокровный буржуа, он в общем предпочитает обходиться без либеральных фраз и демагогических обещаний. Он знает только один закон - закон борьбы. "Переход собственности из слабых рук в более сильные должен быть неизбежен,- откровенно заявляет он.- Это закон Дарвина: все более слабое, дряблое вымирает, все более энергичное захватывает поле действия. Это вполне естественно, а значит, справедливо".1
1 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 779-780.)
С откровенной наглостью предлагает он герою повести захватить имение родственника с помощью исполнительной власти, сожалея, что сам не имеет такой возможности: "Я бы при тех условиях, какими располагаешь ты,- не стесняясь заявляет он,- мог бы рай устроить для себя".1
1 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 782.)
Карьера Соломина закончилась тем, что Тургенев "позволил" ему завести где-то в Перми фабрику на "артельных началах".1
1 (О последующей судьбе подобного "артельного начинания" не без ехидства писал Л. Дейч: "Спустя пару-другую лет он (Соломин, С. М.) убедился, что завод на "артельных началах" не может у нас идти как следует, а потому он стал единым его собственником. Дело у него пошло хорошо: рабочим у него было намного лучше, чем у других хозяев, но и "прибавочную стоимость" он получал большую, чем они" (Л. Дейч. Русские революционеры в романе "Новь" И. С. Тургенева. "Творчество", 1922, № 1-4, стр. 41).)
Колосьин предстает перед нами уже самостоятельным владельцем фабрики, что, по его же признанию, стоило ему много "труда, настойчивости, хитрости, ума, знаний". Он выработал уже и свою хозяйственную философию, философию "нового буржуа". Для него, не в пример Соломину, как-то туманно высказывающего стремление "разбудить народ", но запретившего революционерам и близко подходить к фабрике для ведения пропаганды, народ стал исключительно рабочей силой. Им, правда, как и Соломиным, рабочие не нахвалятся, но хвалят только те, кто смог не попасть в ряды "вредных элементов", упраздняемых им без тени сожаления. "Мое правило - упразднять всякий элемент, не соответствующий общим интересам нашего учреждения",1- без стеснения излагает он свое кредо. И он "упраздняет" - попросту изгоняет с фабрики рабочих, которые не подошли для его "учреждения", т. е., по всей вероятности, слишком настойчиво проявлявших недовольство фабричными порядками. "Мы оставляем полную свободу членам нашего предприятия,- лицемерно провозглашает он,- как членам свободной артели, распоряжаться так, как они считают сообразным с убеждением их совести, и только считаем необходимым предлагать им известные внушения, если образ их действий, по нашим понятиям, может вредить интересу общего дела".2 Что это за внушения - понятно каждому. Вся мораль этого современного реформатора - сила, кулак и "нравственное довольство", несмотря ни на что. Хватай все, что плохо лежит, захватывай, "упраздняй", но для видимости оставайся либерально вежливым, старайся и "невинность соблюсти, и капитал нажить".
1 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 774.)
2 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 776.)
Пореформенную неурядицу Колосьин хладнокровно определяет "переходным временем", уверенный, что постепенно "все придет в гармонию, и, конечно, собственность не минует людей, которые могут научным образом эксплоатировать ее с наибольшей пользой".1
1 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 775.)
Если Соломин, из осторожности "не желая навязывать свое мнение другим", еще "держится в стороне", "как малый со смыслом", то для Колосьина, все увереннее выходящего в ряды "сильных мира сего", подобное поведение неприемлемо. Напротив, опасаясь "химеры", "романтизма", "утопий" (читай: революции, социализма), он категорически требует: "Брось политику, газеты и журналы. Не смотри по сторонам... Старайся главным образом достигнуть нравственного довольства, несмотря ни на что". Успех, по искреннему убеждению Колосьина, лежит в "самоуверенности, доходящей до наглости".1 В этих словах - весь Колосьин с его несложной философией предпринимателя, признающего только один закон - закон наживы, личного довольства, эгоизма.
1 (Н. Н. Златовратский. Золотые сердца, стр. 783.)
Создавая образ Соломина, Тургенев был уверен, что "Базаровы не нужны", ибо "мы вступаем в эпоху только полезных людей", под которыми он несомненно подразумевал и своего героя, в чем его поддерживали и другие, убежденные, что "когда на десять русских придется шесть Соломиных, существующий порядок вещей станет невозможным, и если правительство опоздает реформою, Соломин XX века и его ученик ... трезво возьмутся за топор, будут не вожаки, а рядовые революции, которая и возможна-то будет только тогда, когда в ней окажутся такие рядовые".1
1 (Статья С. К. Брюловой о романе "Новь". Вступ. статья и публикация Н. Ф. Будановой. "Литературное наследство", т. 76, стр. 314-315.)
Златовратский с художественной достоверностью показал тщетность подобных упований, иллюзорность надежд на такое превращение. В Колосьине Златовратский видит типичного буржуа и не надеется ни на его гибель, ни на последующий приход в ряды революционеров. Наоборот, Колосьины еще не развернулись в полную силу, они только начинают распускать щупальцы, спокойно взирая на предсмертные судороги своих жертв. Рисуя образ Колосьина, Златовратский вынужден был признать, что в русской жизни им пока принадлежит последнее слово, они являются реальной силой и в экономике, и в политике.
Соломины "вызрели" в Колосьиных, стали силой, способной на все ради сохранения в неприкосновенности своего "довольства", своих материальных и моральных "устоев".
Создав отрицательный образ хищника-фабриканта Колосьина, логически завершивший образ Соломина, Златовратский сказал свое слово в полемике вокруг романа "Новь", выступил на стороне тех, кто с революционных и демократических позиций отвергал либеральный идеал Тургенева.
|
ПОИСК:
|
© LITENA.RU, 2001-2021
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://litena.ru/ 'Литературное наследие'